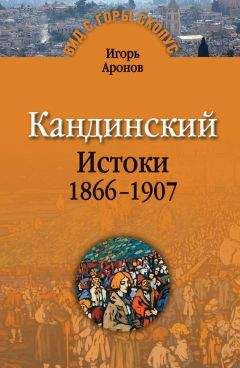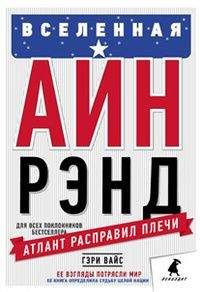Вагнер создал «Лоэнгрина» (1848), переработав в романтическом духе средневековые германские легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Действие оперы происходит в Брабанте, который готовится поддержать поход короля Генриха против враждебных племен, вторгшихся в германские земли. Граф Тельрамунд, стремящийся захватить власть в Брабанте после смерти герцога Брабантского, несправедливо обвиняет дочь герцога Эльзу в убийстве ее брата. Эльзу спасает Лоэнгрин, таинственный странствующий рыцарь, который побеждает Тельрамунда в поединке на «Божьем суде», женится на ней и как защитник Брабанта должен отправиться в поход с королем. Однако Лоэнгрин вынужден покинуть жену и Брабант, чтобы в далекой земле, в храме замка на вершине «горы спасения» Монсальват продолжить свое высшее служение святому Граалю.
«Лишь позже, – отмечал Кандинский, – почувствовал я всю сладкую сентиментальность и поверхностную чувственность этой самой слабой оперы Вагнера» [Там же]. Но, вспоминая о своем первом впечатлении от оперы, Кандинский подчеркивал, что «Лоэнгрин» показался ему «полным осуществлением» его «сказочной Москвы», в отличие от пейзажа Моне, в котором он увидел только ее «частицу». «Лоэнгрин» в большей степени, чем «Стог сена» Моне, отразил определенные грани восприятия Кандинским Москвы, которую он считал «исходной точкой» и целью своих исканий и «вся сущность» которой выразилась для него в образе его матери [Там же: 55–56]. «Лоэнгрин» был частью немецкого наследия Кандинского. Он вспоминал, что в детстве он «много говорил по-немецки» и его бабушка со стороны матери ввела его в мир немецких сказок [Там же: 10; Kandinsky 1982: 359]. Соединив «Москву-сказку» и «Лоэнгрина», Кандинский внутренне связал воедино свои русские и немецкие корни.
«Лоэнгрин» морально оправдывал героя, пожертвовавшего земной любовью и обязанностями ради высшей духовной цели. В этом смысле опера отвечала внутренним стремлениям Кандинского в переломный момент его жизни, когда он должен был решиться на свое собственное странствие в мир искусства в поисках высшей духовной цели. Немецкие корни Кандинского, наряду с другими внешними и внутренними факторами, сыграли не последнюю роль в его решении отправится в Мюнхен, художественную столицу Германии того времени.
Глава четвертая
Происхождение символов
1900–1902
На обороте: В. Кандинский. Сумерки. Фрагмент
В декабре 1896 г. Кандинский вместе с женой Анной прибыли в Мюнхен. В начале 1897 г. Кандинский начал учиться в частной художественной школе Антона Ажбе (Anton Azbè), где он встретил группу молодых русских художников, лидером которой был Игорь Грабарь и в которую входили Дмитрий Кардовский, Алексей Явленский и Марианна Веревкина [Грабарь 1937: 118–119, 122, 141].
Грабарь, Кардовский и Явленский, подобно Кандинскому, начали свой жизненный путь в сферах, далеких от искусства. Грабарь учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета с 1889 по 1893 гг. Кардовский, как и Кандинский, изучал право в Московском университете с 1886 по 1891 гг. Явленский, гвардейский офицер, служил в армии с 1877 по 1896 гг.
В отличие от Кандинского, Грабарь и Кардовский начали учиться в Санкт-Петербургской Академии художеств под руководством Павла Чистякова, известного своими принципами конструктивного рисунка, и Ильи Репина, выдающегося художника, который, однако, учил только собственным примером, без лекций. Вся система академического обучения находилась в то время в глубоком кризисе, и в июне 1896 г. Грабарь и Кардовский оставили Россию. Приехав в Париж, они поступили в художественную школу Фернана Кормона (Fernand Cormon), в которой учился их друг Виктор Борисов-Мусатов. Грабарь считал Кормона самым серьезным учителем в Париже, но не принял его подход к рисунку, основанный, как он увидел, только на измерениях, обеспечивающих правильную передачу пропорций модели. Посетив мюнхенскую школу Ажбе, Грабарь и Кардовский решили остаться в ней, впечатленные мастерством Ажбе-рисовальщика, а также этюдами его учеников, которые, как вспоминал Грабарь, «были намного грамотнее общего уровня этюдов репинской мастерской» [Грабарь 1937: 65–102, 110–121; см. также: Подобедова 1957: 8–14; 1964: 26, 46–50; Русакова 1966: 17–19, 36–40].
Для Грабаря и Кардовского, которые вернулись в Россию в 1901 г., время их пребывания в Мюнхене было лишь периодом учебы в чужой стране. Для Кандинского же Мюнхен, вызвавший у него очень личные, счастливые воспоминания о детских играх со своей тетей и о немецких сказках его детских лет, стал его «вторым домом», местом его «рождения» в мире искусства:
Одним из ярких детских, связанных с участием Елизаветы Ивановны, воспоминаний, была оловянная буланая лошадка из игрушечных скачек <…>. По приезде моем в Мюнхен, куда я отправился тридцати лет, поставив крест на всей длинной работе прежних лет, учиться живописи, я в первые же дни встретил на улицах совершенно такую же буланую лошадь. <…> И полусознательное, но полное солнца обещание шевельнулось во мне. Она воскресила мою оловянную буланку и привязала узелком Мюнхен к годам моего детства. Этой буланке я обязан чувством, которое я питал к Мюнхену: он стал моим вторым домом. <…> И немецкие сказки моих детских лет ожили во мне. Исчезнувшие теперь высокие, узкие крыши на Promenadeplatz, на теперешнем Lenbachplatz, старый Schwabing и в особенности Au <…> превратили эти сказки в действительность. <…> Я радовался надписи «Kunstmühle»[82], и мне казалось, что я живу в городе искусства, а значит, и в городе сказки [Кандинский 1918: 10, 36, 45].
Ажбе учил рисовать по принципам основных линий и форм, представляющих конструкцию фигуры. Его метод отвечал желанию Грабаря овладеть законами достоверного изображения реальности. Грабарь писал, что он «заранее шел на полный отказ от субъективистических и индивидуалистических художественных концепций» и искал «такой способ писания с натуры, который давал бы максимальные гарантии самоконтроля и объективной правды, необходимой при школьном штудировании» [Грабарь 1937: 136; см. также: Подобедова 1957: 16]. Усвоив метод Ажбе, который был близок подходу Чистякова, Грабарь и Кардовский вскоре приобрели в школе «репутацию мастеров» [Грабарь 1937: 126–128, 137–138; Подобедова 1957: 14].
Подобно своим товарищам по школе Ажбе, Кандинский понимал, что для того чтобы стать профессиональным художником, ему было необходимо овладеть правильным анатомическим рисунком. Он даже открыл для себя целесообразную красоту «естественного закона конструкции», но вместе с тем во время занятий рисованием он чувствовал себя «рабом» «работы с модели», лишь копирующим внешние формы. В его глазах даже картины старых мастеров не выражали истинную красоту природы: