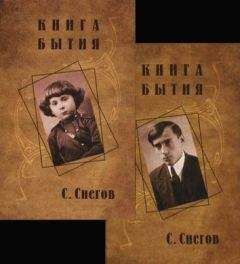Иногда удавалось дергать за косы не одну, а две пары девчонок. Это было верхом удачи, в такие счастливые дни мы бежали до Мещанской церкви, непрерывно хохоча и возбужденно делясь друг с другом подробностями успешной акции. И слышали восклицания женщин, то удивленные, то негодующие, то сочувствующие: «Ось же скаженные хлопци, чого их так розибрало!»
Наутро в классе с нетерпением ждали наших рассказов. Аня Соневна тоже выслушивала реляции о победах, и радовалась моей радости, и с сожалением взмахивала короткими, темными, не очень густыми и совсем не вьющимися волосишками — мальчишки, кроме меня, на нее внимания не обращали, вряд ли кто стал бы дергать ее за жидкие косички, даже если бы она их завела. А заводить Соня не разрешала — отрастая, волосы начинали выпадать (была у Ани такая болезнь).
Наши с Вилли эскапады научили меня очень важному искусству — здороваться с незнакомыми так, чтоб отвечали. В годы профшкольничанья и студенчества «здоровканье» стало любимым развлечением. Нужно было сказать незнакомому человеку «Здравствуйте!» и получить в ответ то же словечко или «Добрый день!» Штука была хитрая. Мужчины, как правило, отвечали сразу, только некоторые (из очень молодых или, наоборот, очень старых) сперва старались разглядеть, кто их приветствует. А женщины, твердо усвоившие, что с незнакомыми здороваться неприлично (город все-таки портовый), чаще всего начинали сомневаться: а вдруг этот, здоровающийся, их знает? Иногда они даже останавливались и спрашивали: «Мальчик, постой, ты кто?»
Так вот, я стал чемпионом города по провокационным приветствиям — это все признавали. Мы соревновались: кто выбьет девять хороших ответов у десяти мужчин и восемь — у десяти женщин, причем незнакомцы, у которых вымогалось здравствование, выбирались из самых неприветливых. Заключали пари. Бывали и неудачи, конечно, никакое трудное дело без них не обходится, но в среднем я обжирался бесплатным мороженым раз в пять-шесть чаще, чем угощал других на свои кровные, скудные деньжата.
Но я опять отвлекся. Именно это веселое занятие — дерганье девчонок за косы — и стало причиной того, что мне пришлось ровно на пять лет распроститься со всяким учением.
В нашем классе было, я помню, два учителя: добродушный, говорливый толстяк (уже не знаю теперь, что он вел) и учительница арифметики, молоденькая, стройненькая, с двумя длинными косами в руку толщиной. Они шевелились у нее на спине как большие желтые змеи — арифметичка любила встряхивать головой. Ни у одной из девчонок, которых мы терроризировали, и отдаленно не было такой красоты!
И я стал уговаривать верного Вилли подергать за косы учительницу. Он сперва испугался, потом рассердился, затем смирился, после согласился — немного косноязычный, он не был способен сопротивляться красноречию, а я, думаю, был настойчив и красноречив. Судьба учительницы — и в еще большей степени наша — была решена в один ветреный снежный денек.
Урок арифметики был последним, мы с Вилли уселись на крайних у прохода местах на двух соседних партах. Арифметичка прошла в конец класса и начала проверять, как перекарябываются в иван-маховские тетрадки задания, написанные на доске. Она проверила мои записи, потом Виллины и перешла к следующим партам — прекрасные ее косы замаячили перед нашими глазами. Я мигнул Вилли — мы разом вцепились в них и дернули изо всей силы: я — правой рукой левую косу, мой верный оруженосец — левой рукой правую (такую операцию мы неоднократно отрабатывали на девчонках, акция была проверенной). Учительница закричала, упала, вскочила и вихрем вынеслась из класса. На полу осталась маленькая лужица. Урок был сорван. Вокруг нас с Вилли сгустились одноклассники. Благовоспитанные немцы не скрывали страха и восхищения.
Спустя минуту явился злой швейцар и, больно ухватив нас за уши (меня — за правое, Вилли — за левое), потащил таким макаром к директору. Директор что-то долго и строго нам выговаривал, оставил на два часа после уроков в пустом классе, а потом снова вызвал и объявил, что из гимназии мы исключены — пусть завтра придут родители, им расскажут о нашем возмутительном поступке.
Мама кинулась в гимназию в тот же день — и потом ходила еще не раз. Мольбы ее успеха не имели. Вильгельма Биглера в знак уважения к его родителем и учитывая меньшую вину (он честно и правдиво доложил, что инициатором действа был всецело я) восстановили, а для меня гимназическая дверь была закрыта навсегда. Это случилось в 1918 году. Только в 1924-м я снова взял в руки учебник.
И еще одно воспоминание, гораздо ярче и радостней, связано у меня с лютеранской гимназией святого Павла, которая в последний свой год (в гражданскую ее закрыли) так строго и справедливо отринула, если можно сказать — «выринула» меня из себя.
Она стояла у кирхи (или кирха была при ней), построенной не из кирпича, а из ракушечника и стилизованной под позднюю готику. Ракушечник — камень грубый и хрупкий, к особым изыскам не пригодный — во всяком случае, так считают архитекторы. Но давно известно — дело мастера боится. Из неблагодарного камня мастера-строители возвели такие высокие стены с прихотливо выгнутыми углами, вывели такие плавные закругления, украсили окна такими тонкими кружевами наличников и рам, вывязали узоры такими прихотливыми линиями, что оставалось только обалдевать: неужто ракушечник? Тот, что годится лишь для уличных заборов да всякого немудреного гладкостроения?
В один из приездов в Одессу я узнал, что один — верней, одна директивная товарищ — ходатайствовала перед высшими инстанциями о разрешении снести кирху: ветха, не нужна, художественно малоценна, да еще того и гляди обе ее башни рухнут на головы прохожим… Я не так уж зол по природе, но кое-чего все-таки пожелал этой высокозадой начальственной даме, а заодно и лакеям-архитекторам, угодливо поддержавшим ее «мнение».
Так вот, к гимназии примыкала кирха, и нас туда иногда водили. Учиться по лютеранскому требнику запрещали — богослужение слушать не возбраняли. Служба была как служба, правда, можно было сидеть, что выгодно отличало кирху от церкви. Зато в православных храмах висели красочные иконы и священники одевались гораздо пышней, чем скромные пасторы, — так что церковь привлекала больше.
Но как-то в свободный часок («окно» — по студенческой терминологии) я пробрался в пустую кирху. Кто-то играл на органе, сквозь цветные витражи лилось сияние — многокрасочное, удивительное, оно ложилось на скамьи, передвигалось по стенам и полу. День был неровный, по небу мчались облака, солнце то вырывалось в полный свет, то гасло — все в кирхе то ликующе вспыхивало, то уходило в торжественный сумрак. И зал наполняла музыка — величественно печальная, проникновенно нежная. Я волновался, я был покорен, сражен, не мог двигаться. Я присел на заднюю скамейку и только слушал, слушал, боясь, что органист увидит меня и прогонит. Когда музыкант прервал экзерсисы, я поспешно удрал.