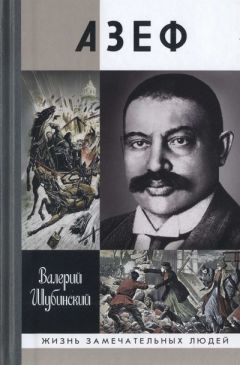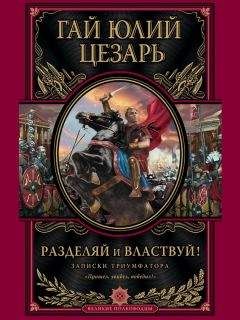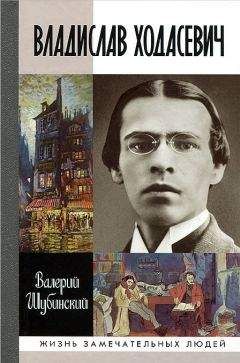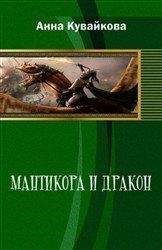Теперь у Крестьянинова не было сомнений: Иван Николаевич — агент охранки. Но куда идти с такой информацией?
В кружок Павлова Крестьянинов пришел «от Жданова». Он стал разыскивать этого Жданова. Оказалось, что это — инженер Мендель Левин из «Электрической энергии». На обвинения Крестьянинова он только пожал плечами: «Иван Николаевич мой друг, мы знакомы много лет».
Наконец, Рубакина познакомила его с Алексеем Васильевичем Пешехоновым, будущим министром продовольствия Временного правительства. Пешехонов был рядовым членом партии эсеров, без всяких полномочий. Азефа он знал, не симпатизировал ему, но какое это имело значение? Сбивчивый рассказ Крестьянинова не произвел на него впечатления, а сам юноша показался «не вполне нормальным».
Видных эсеров, кроме самого Азефа, в Петербурге не было. В конце концов Пешехонов привлек к делу присяжного поверенного Александра Исаевича Гуковского, тоже рядового эсера, но с почтенным народовольческим и тюремным стажем.
Вдвоем они устроили импровизированный суд над Иваном Николаевичем. Это произошло дома у Рубакиной. Хозяйка тактично вышла в другую комнату.
Когда заговорили о «провокации», Азеф сначала подумал (или сделал вид, что подумал), что речь идет о Крестьянинове, и стал оправдываться: дескать, он ни при чем, «молодой человек» предложен ему «одним из них же» (видимо, Пешехоновым, знакомым Рубакиной). Когда понял (или сделал вид, что только сейчас понял), что обвиняют его самого, разыграл искреннее возмущение и негодование, даже заплакал (хотя почему «даже» — он любил пустить слезу). Потом успокоился и стал деловито защищаться.
Кто связал его с Павловым и его кружком? Азеф назвал фамилию и адрес рабочего. (Его, естественно, в Петербурге уже не нашли.) Фамилия была еврейская, для петербургского рабочего — странность, но на это не обратили внимания. Потом, несколько лет спустя, этот рабочий был разоблачен как «провокатор» — но Азефа это напрямую не компрометировало.
Почему Азеф приказал Крестьянинову молчать про Орлина и его шпионов? Потому что Орлина надо было ликвидировать (Пешехонов и Гуковский, сами совершенно мирные люди, воспринимали как само собой разумеющееся, что любых агентов полиции можно и нужно убивать) — а значит, надо было действовать тихо.
Вопрос о «проституции» смешно было рассматривать всерьез. Судьи лучше, чем Крестьянинов, представляли себе методы революционеров, и сюжет с горничной графини Кочубей их едва ли шокировал.
Была еще одна улика — куда более серьезная. Речь шла об «Электрической энергии». В компании постоянно работали три человека: Азеф, Левин и Шарга. Кто-то из них, получалось, осведомитель.
Но Крестьянинов был не в состоянии изложить свои подозрения внятно. И Азеф одержал победу. Под конец сам обвинитель поверил в его невиновность и выдал еще одну информацию, доставшуюся ему от Павлова: «…Какого-то видного провокатора зовут Аугениев или Аргенов… Есть такой человек в партии?»
Да, невозмутимо ответил Азеф. Такой человек есть.
Аугениев! Евгеньев! Евгений!
…И вот оправданный Азеф спокойно, по-деловому обращается к своему недавнему обвинителю — как директор фирмы к увольняющемуся сотруднику:
«— На этот адрес доставьте весь транспорт. Прошу литературу у себя не задерживать. Завтра или послезавтра я уезжаю».
Видимо, это был майский отъезд — надолго. Азеф все уже решил. Но этот эпизод должен был укрепить его в принятом решении. Полицейские работодатели дважды за несколько месяцев поставили его под удар: один раз, потому что хотелось отчитаться о лишней арестованной человеко-единице, во второй — потому что жалко было платить мелкому агенту чуть больше, чем платят на Путиловском заводе чернорабочему.
Верная служба полиции — это унизительная зависимость от чужой глупости. Нет, пусть уж лучше они от него зависят. От его собственной, личной игры.
Гершуни был доставлен в столицу с большими предосторожностями — в кандалах, что в то время было большой редкостью. Первоначально ему были предъявлены обвинения в организации убийств Сипягина и Богдановича и в покушении на Победоносцева.
Главу террористов два месяца продержали в Трубецком бастионе Петропавловской крепости — без свиданий, книг, переписки… и без допросов. В середине июля ему было предъявлено дополнительное обвинение — в покушении на Оболенского: на основании показаний и чистосердечного раскаяния Качуры.
Гершуни сперва воспринял это как «жандармский фокус», но затем «было упомянуто несколько подробностей, которые они могли узнать только со слов самого Качуры». Это стало ударом гораздо большим, чем предъявление дополнительного обвинения. В принципе у полиции и так уже имелось более чем достаточно данных, чтобы при желании повесить Григория Андреевича, но «падение» уже канонизированного героя было новым и очень неприятным ударом по партии. По словам Гершуни, он испытал при этом известии «смертельный ужас». Дело в том, что Качура «на суде (непосредственно после покушения. — В. Ш.) и после суда держал себя необычайно стойко». Но год спустя следователь Трусевич провел с ним большую работу, и вот результат.
Гораздо злее, чем о Качуре (которого он готов был в конечном счете простить), пишет Гершуни о Григорьевых. Между прочим, язвительно замечает, что полиция «устраивала им такие „удобные“ свидания, что Григорьева в январе 1904-го, через год после ареста, родила ребенка». Повод для язвительности, прямо скажем, есть, и понятно, что полиция «обрабатывала» Евгения Константиновича и Юлию Феликсовну, давая им возможность вести в заключении полноценную семейную жизнь (при том, что они еще даже не были на тот момент обвенчаны), но Гершуни мог бы и помягче отнестись к женщине, которая в момент суда (18–25 февраля) едва отошла от родов. Если она, молодая мать, «все время корчила из себя кающуюся Магдалину», а муж старался ее выгородить, то ведь их можно было понять.
Концепция, которую Плеве собирался представить обществу, была очень проста: никакого серьезного революционного подполья нет, вся БО — один фанатичный социалист, еврей Гершуни, и несколько поддавшихся его влиянию психически неуравновешенных людей. Сейчас мы их обезвредили, и никаких терактов больше не будет. Гершуни же настаивал на том, что террор возникает стихийно, что люди идут на него из-за возмущения «невыносимыми условиями жизни» в России, что, в частности, Григорьевы и Качура сами усиленно вызывались «на дело», что он — лишь организатор, технический руководитель, но не инициатор и не вдохновитель убийств. Самое любопытное в том, что оба, кажется, искренне верили в свою картину происходящего. Плеве пришлось за эту веру поплатиться жизнью.