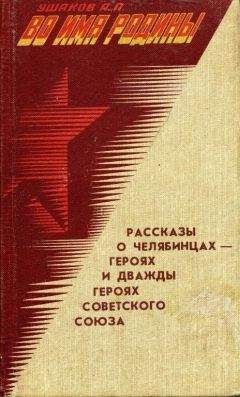Я дошел до конца своего бесконечного круга! На пятьдесят седьмые сутки меня вдруг вызвали в шрайбштубу — комнатушку, в которой сидел такой же, как все, заключенный — писарь-немец Франц, с красным («политическим») винкелем на груди. Он вел учет заключенных нашего блока по роду «преступлений» и, видимо, имел право переводить из одного списка в другой, а соответственно этому — из одного блока в другой. Очевидно, он имел связь с подпольной коммунистической организацией и в какой-то мере выполнял ее волю. Франц мне сказал, что с завтрашнего дня я передан в барак, в котором живут обыкновенные, то есть не приговоренные к штрафу или смерти заключенные. Его мягкий тон и крепкое пожатие руки — мы были в штрайбштубе только вдвоем — сказали мне гораздо больше, чем его слова. Для меня сделано что-то большое, невероятное в данных условиях.
В моей жизни появилось опять что-то новое. Но где Аркадий Цоун, мой товарищ по подкопу и карцерам, с кем вместе я вошел в лагерь смерти? О нем я ничего не знал... Иван Пацула, видимо, остается в бараке штрафников. С номером Никитенко и его именем я уходил из барака. За двери нашего блока вывел меня все тот же Франц.
* * *
Жизнь в новом бараке сравнительно легче. Заключенным, проживавшим здесь, доверялась самая «почетная» работа: уход за свиньями, уборка на огороде, в частности, на участке коменданта, у озера, вблизи белых лебедей, а также подвозка на кухню продуктов и дров. Эти дела сами собой ставили людей в более выгодные условия. Как потом я узнал, подпольная организация лагеря внимательно следила за состоянием здоровья коммунистов, антифашистов, всех, кто, попав в плен, не сдавался врагу. Она находила способ поддерживать их здоровье.
В новом бараке меня познакомили с худым высоким стариком, голову которого покрывала седая, пушистая шевелюра. Он назвал свое имя, я свое. Это был ученый из Чехословакии. Он заведовал свинарником. Наверное, по рекомендации Бушманова я и попал в подчиненные к нему, и в тот же день занялся своей работой.
Мы принимали отходы из кухни, где готовили пищу заключенным, получали объедки со столов немецких офицеров и солдат. Когда я впервые увидел отходы, сваленные в ведро, я едва сдержал себя, чтобы не броситься на эти объедки. Среди них были куски настоящего белого хлеба, головы от селедок, кружки жареного картофеля. Почти полгода я лучшего не ел. Мой шеф, ученый из Праги, как называл он себя, отнял их у меня, выбрал несколько картофелин, достал немного хлеба, кусочек селедки и положил все это на стол.
— Это съешь, и дело с концом. Берегись, чтоб еда тебя не «съела». Вот так-то! Голова селедки — это, друг, «деликатес», от которого к утру можешь и ноги протянуть. А зачем тебе подобная роскошь, не правда ли? — и он весело засмеялся. — Постепенно, всего понемногу отведай, а тогда накроем стол как подобает — из всех самых лучших объедков, которые попадают к нам. Кое-что отнесешь и своим друзьям.
— А это возможно? — обрадовался я, вспомнив о Цоуне, Пацуле, о замечательном пареньке Диме.
— А почему же? Только все надо делать с умом, — хладнокровно, без малейшего намека на рисовку, ответил мне чех.
Теперь я понял, что речь идет не только о собственном желудке. Видимо, мои товарищи из подполья — Бушманов и Рыбальченко — не зря сделали все, чтобы я оказался здесь. Значит, они мне доверяли, верили мне, как самим себе. Но неужели здесь, в свинарнике, я просижу все время до дня нашей победы? И на душе стало тяжело. Я тогда не до конца понял ту ответственную роль, которую на меня возлагала партийная организация.
Работа была нехитрая: мы кормили свиней, на огороде пололи грядки осенней брюквы, выкапывали лук, ухаживали за цветами. Были здесь и парники, которые мы готовили к зиме, укрывая их землей уже до следующей весны. Эсэсовцы при лагере развели целое хозяйство и планировали долго им заниматься.
Землю сюда подвозили эшелонами — черную, липкую, видимо, совсем недавно погруженную на платформы. Естественно возник вопрос: откуда эта замечательная плодородная земля?
Во время отдыха кто-то из заключенных, прохаживаясь вдоль эшелона, вдруг сказал:
— Да это же наша, советская! С Украины возят!
Незнакомый мне человек проворно пошел к нам навстречу, показывая рукой на надписи на вагонах. И вспомнилась мне статья, которую я читал в какой-то газете. Пойдут, дескать, с Востока на Запад сотни и тысячи эшелонов не только с зерном, но и с землей, на которой оно прекрасно растет. Немцы выберут весь плодородный грунт, перевезут его в Германию, заменят глинистые поля украинским черноземом...
* * *
У высокой длинной стены, сложенной из огромных железобетонных плит, насыпали мы огромные пирамиды из чернозема, а когда поднимались на их вершины, нам виден был двор за стеной. Удавалось минуту-другую постоять и понаблюдать за тем, что происходило на тщательно укрытом стенами дворе. Там возвышалась квадратная труба крематория, двигались люди, иногда солдаты гнали их целыми группами и они быстро исчезали среди помещений. Я спросил у чеха, не знает ли он о том, что там происходит. Тот помолчал, огляделся вокруг и сказал:
— Сейчас гитлеровцы сжигают немцев, самих себя.
И вот однажды, пробравшись к стене между пирамидами чернозема, я нашел в ней щель и начал сквозь нее следить за двором крематория.
На машине во двор привезли мужчин, женщин, среди них были и дети. На вид они все прилично одеты, очевидно, их забрали прямо из квартир. Некоторые мужчины в военных мундирах, женщины держали за руки детей, словно собирались идти с ними на прогулку. На них набросились эсэсовцы и начали бить, кричать, приказывая раздеться. Солдаты хватали их верхнюю одежду и отбрасывали в сторону. Поднялся плач, шум, женщины с детьми на руках бросались к своим мужьям, но солдаты сбивали их с ног, и матери вместе с детьми падали на землю. Слышались душераздирающие крики, стоны. Я видел, как всех этих людей, взрослых и детей, эсэсовцы в несколько минут превратили в груду тел. А потом убитых и еще полуживых, словно бревна, эсэсовцы складывали на вагонетки и вкатывали их в широкие двери крематория.
Вечером, когда я начал рассказывать в бараке о том, что увидел во дворе, чех зажал мне своей ладонью рот.
Потом, когда мы остались вдвоем и вблизи нас никого не было, он строго сказал мне:
— Я ежедневно вижу, что там творится. Гитлер вот уже третий месяц сжигает своих, таких же, как он, нацистов. Никому ни единого слова и не смей бегать за «пирамиды». Увидят — там и останешься. Лучше собери объедки и отнеси их своим товарищам. Сам знаешь, заключенным дают несоленую пищу. Селедочная голова — это, юноша, нужное блюдо. Умей быть умнее и хитрее наших врагов. Положи за пазуху свертки и иди!.. — Он объяснил, как передать все это, кто и где меня будет ждать.