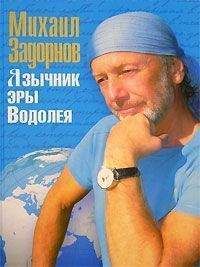— Когда вы принимали в журнал человека, сидящего теперь перед вами, вы не подозревали, какой это идиот, да и сам он этого не знал. Я ухожу, Иван Петрович, увольняюсь по собственному желанию или как вы сочтете нужным. Другого выхода я не вижу. Редакции из-за меня предстоят большие неприятности. Мало того, что шьют самиздат: я — еврей, стало быть — сионист, идеологический диверсант, пособник израильских империалистов и прочая, и прочая... Что и кому тут докажешь?.. Я напишу заявление.
Иван Петрович слушал меня внимательно, не перебивая, не переспрашивал. Он сидел в кресле, упершись локтями в стол, сцепив морщинистые стариковские пальцы, опустив голову, так что я почти не видел его лица — только сивые, седые волосы на темени крупной, не по росту, головы... О чем он думал? Может быть, о том, что в те минуты не приходило мне на ум: куда я денусь, уйдя из редакции? Кто меня возьмет?.. Я давно не печатаюсь, после первого успеха все оборвалось, я прослыл диссидентом, теперь этот самиздат... Случалась, Шухов бывал у нас дома, разговаривал с моей женой, тестем, тещей, шутил, ухватив за нос дочку: "Какой холодный — как у охотничьей собаки!.."
Помню, я ждал его слов, но что бы он ни сказал, у меня будто гора с плеч свалилась: я рад был, что сам нашел правильное решение...
Иван Петрович помолчал, посопел, хмуря лохматые кустики бровей над мощными линзами. Наконец, я услышал:
— Не надо вам. Юра, никуда уходить...
— А журнал?..
Журнал, как "Новый мир" для Твардовского, был его, по сути, детищем, он жил им — впрочем, как и все мы... Но, глядя куда-то мимо, Шухов только махнул куда-то в сторону рукой — мол, что ж, двум смертям все равно не бывать... Видно, противно было ему — даже из высших, говорю без иронии, соображений — согласиться на предложенное мной...
И я остался в журнале...
А времена были серьезные.
Через неделю или две, замученный допросами и обысками, Ефим Иосифович Ландау бросился с балкона. В прощальном письме Бенедикту Сарнову он извинялся за то, что не успел закончить примечания к однотомнику стихов Эренбурга (в Большой серии "Библиотеки поэта"), который редактировал Сарнов. Письмо, написанное в свойственной Ландау суховато-ироничной манере, заканчивалось строчками из эренбурговской "Бури":
"Мы жить с тобой бы рады.
Но наш удел таков.
Что умереть нам надо
До третьих петухов..."
Проще всего манеру поведения связывать напрямую с интеллигентностью, культурой. Будто Фихте или Вагнер не были столпами культуры... Будто академики Углов и Шафаревич — не интеллигенты... И если Иван Петрович Шухов, на мой взгляд, был высшей пробы интеллигентом, то не количеством прочитанных (и написанных) книг, не образом жизни это определялась. В его характере, в своеобразном артистическом аристократизме его души мне всегда чудилось некое природное, из народной глубины идущее начало. То самое, в котором трудно все разложить по полочкам, разумно мотивировать. Почему?.. А бог его знает — почему, да только поступить надо так, а не иначе! И чем больше доводов, тем упорней желание сделать все им наперекор!..
Думая об Иване Петровиче, я вспомнил о человеке, которого никогда не видел. Звали его по теперешним стандартам странно — Афон. А услышал о нем я от Марии Марковны, матери моей жены. Молодость ее прошла на Украине, в Черкассах. Город во время гражданской войны переходил из рук в руки — от белых к красным, от красных — к петлюровцам, от петлюровцев — к "зеленым", бог знает — к кому еще. Что дольше всего хранит человеческая память? Воспоминания о войнах, пожарах, землетрясениях... В еврейской памяти живут погромы. Как-то, перебирая фотографии незнакомых мне людей, бережно хранившиеся Марией Марковной, я засмотрелся на одну — совсем юной, необычайно красивой девушки с рафаэлевским овалом лица, полными губками, большими черными глазами, мерцающими в глубине густых ресниц. Локон, завившийся пружинкой, повис у виска — там, на виске, казалось, пульсирует жилка... Чудо как хороша была девушка! Я заглянул на обратную сторону фотокарточки — и прочел написанное мелким четким почерком: "Маня (имя мне запомнилось, фамилия — нет), убита во время погрома".
Потом я узнал от Марии Марковны: это была ее подруга, когда ее убили, ей было восемнадцать лет.
Так вот, в тот ли, в другой раз, когда город захватили петлюровцы (или "зеленые" атамана Григорьева) и по Черкассам полыхнул слух о погроме, семью Марии Марковны спас Афон. Семья была немалая и не состояла в родстве ни с баронами Ротшильдами, ни с сахорозаводчиком Бродским. Ее глава Мотл Проскуровский служил на железнодорожной станции упаковщиком, дети — что постарше — подрабатывали: тот помогал на разгрузке, этот, щелкая кнутом, гонял на Днепр клячонку-водовозку. Афон жил рядом, за плетнем. В плетне имелась дыра, так что со двора в соседний двор можно было пробраться, не выходя за калитку. Когда слухи сделались угрожающими, Афон явился к своим соседям и ночью через ту дыру провел к себе в дом. Перед этим дедушка Мотл (так называли Мотла Проскуровского, когда я впервые его увидел: в ту пору ему было хорошо за восемьдесят) пришел к этому человеку, с которым его разделял не только плетень: вера, обычаи, ощущение жизни — все было разное... И вот он пришел к соседу Афону и положил на стол ему деньги (можно представить, сколько мог собрать их упаковщик!..) и сказал: "Спаси мою семью". И Афон ответил: "Забери свои деньги, я тебе лучше сделаю, чем за деньги"... Так, именно так, слово в слово, будто бы сказал Афон, и я не сомневаюсь, что так оно и было, уж очень характерная интонация дедушки Мотла слышится мне в этом пересказе. Но что, в конечном счете, куда важнее — все дни, пока в городе шел погром, пока в городе грабили, насиловали, убивали, семейство дедушки Мотла скрывалось в подполье у Афона. Он мог за это жестоко поплатиться: отчего же он все-таки это делал?.. Тем более, что среди захвативших Черкассы не то петлюровцев, не то григорьевцев были два его родные брата?.. Пока они грабили и убивали, Афон спасал... Отчего?.. Не знаю, не знаю, не могу ответить. Тем более, что не довелось мне повидать того Афона, поговорить с ним. Правда, его видела моя жена, еще девочкой: приезжал к дедушке Мотлу в Харьков огромного роста старик, с большой бородой, в сапогах и плаще, он доставал из мешка и протягивал ей гостинчик из родных Черкасс... Потом они с дедушкой Мотлом сидели за столом, пили чай, а то и кое-что покрепче, закусывая свежепросоленным, с чесночком, салом. Дедушка Мотл, в чем я сам убедился, даже и в свои почти девяносто лет мог, а главное — умел выпить, и когда его внук, только что отслуживший в армии, проездом домой заглянул к дедушке и, хорошо "приложившись" на радостях, под конец рухнул и растянулся пластом во дворике, под увешенным спелой вишней деревом, дедушка Мотл, ни в чем не уступавший в застолье внуку, привычно похаживал по садику, рыхлил землю мотыжкой...