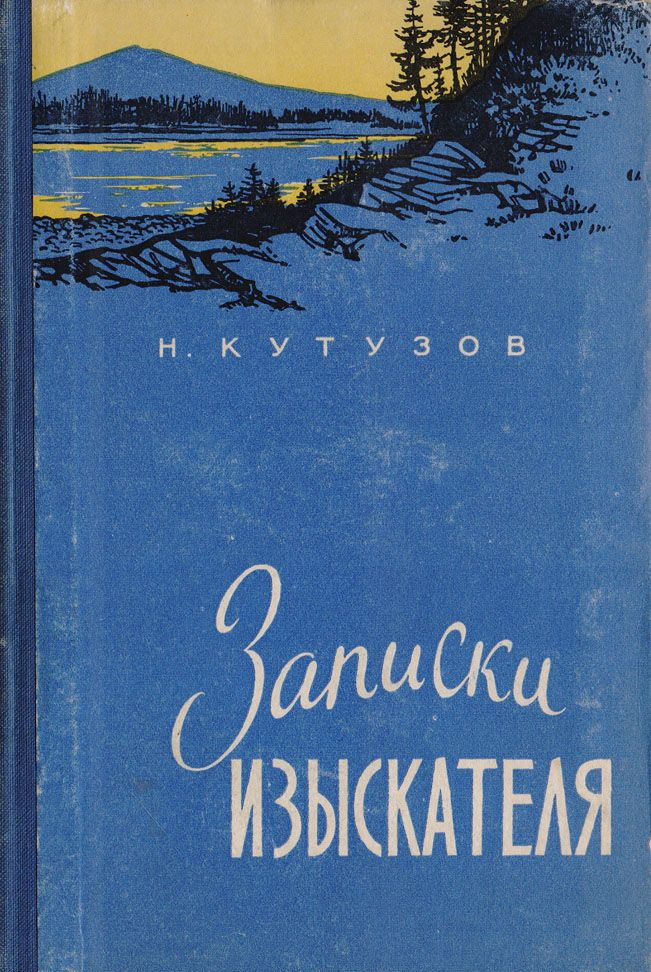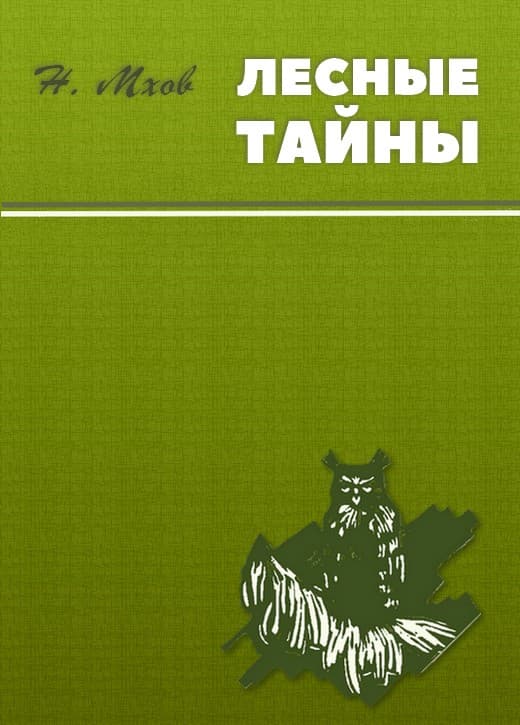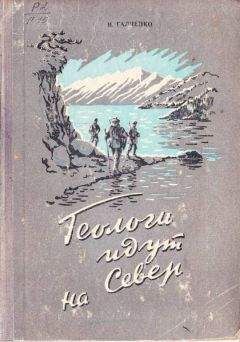за сундук! — покрикивал он.
— Чем командовать, нашел бы лучше грузчиков, — ворчал Борисоглебский, — засовывая, однако, свою папку под чехол чемодана.
Здесь уж Фомич припомнил ему все его шуточки за преферансом.
— В тайге грузчиков не будет, и придется тебе, Борисоглебский, все самому делать: и папочкой заниматься и вещи носить. Так, пока есть возможность, тренируйся, — серьезным тоном наставлял он товарища.
И вот по узкому трапу, вытирая струившийся по лицам пот, втаскиваем на головокружительную высоту, на палубу, свой тяжелый сундук и остальные чемоданы.
На палубе выясняется, что наша каюта находится еще выше. Физиономии у нас вытянулись, но пришлось снова браться за свои пожитки и переносить их дальше.
Погрузка продолжалась до вечера. И все это время около парохода стояли шум и суета. Вот грузят лошадей. Их подхватывает кран, и они, подвешенные на лямках, с безумными глазами, как бы плывя, рассекают воздух ногами. Лошадей оставили на верхней палубе, соорудив им прочные стойла.
Наконец шум утих. Убрались стрелы кранов, закрылись люки трюмов.
Ночью пароход отошел от причала и стал на рейде в бухте.
С парохода открылся замечательный вид на ночной город. Оттуда доносился приглушенный шум работающего порта, в котором темнели силуэты океанских пароходов.
В эту ночь на пароходе мало кто спал, и восход солнца многие встречали на палубе.
Город постепенно вырисовывался из голубоватой дымки и приобретал различные окраски. Вот вершины сопок запылали пожаром от восходящего солнца. Этот пожар разгорался все сильнее и ярче и, наконец, брызнул огненными лучами на море. Все вокруг заискрилось, заиграло. Голубая дымка стала быстро таять, и город показался во всем своем ослепительном блеске.
Начался новый день, особенно новый для нас. В этот день мы уходили в море.
Три протяжных гудка, многократно повторенные эхом, известили город-порт о том, что наш рейс начался.
Пароход вздрогнул от первых оборотов винта и, чуть покачиваясь, медленно поплыл.
Тысячи лошадиных сил, упрятанных где-то глубоко в его чреве, заставляли двигаться стальную громадину.
Берег постепенно начал удаляться, и город опять стал покрываться дымкой.
Справа проплыли берега Русского острова, и пароход, набирая скорость, вышел в открытое море.
Оно было почти спокойно, но, несмотря на это, пароход раскачивало, и к исходу дня появились первые «жертвы» морской болезни. В ход пошли все имеющиеся профилактические средства и приемы: кто ел лимоны, а кто воздерживался от всякой пищи, одни лежали, другие ходили часами по палубе.
Мои товарищи довольно стойко переносили первую незначительную качку. Правда, у Борисоглебского вдруг позеленело лицо, но и он не показывал виду, что ему плохо. На меня самого качка не действовала нисколько.
На носу парохода всегда находилась большая толпа народу. Все с интересом смотрели вниз, как корабль, рассекая волны, отбрасывал в обе стороны бирюзовые каскады воды, искрящиеся на солнце.
Да, море, море! Какой простор и величественная красота!
Но вот вдали показались берега. Это южная оконечность острова Сахалина и северный берег японского острова Хоккайдо. Мы входили в знаменитый пролив Лаперуза.
Он настолько узок, что оба берега отчетливо видны. Пассажиры высыпали на палубу; всем опять захотелось посмотреть на такую близкую землю. Медленно проплывают пустынные берега и, постепенно удаляясь, скрываются за горизонтом.
Не успели мы отойти от пролива Лаперуза, как, несмотря на ясную и тихую погоду, цвет воды стал меняться, темнеть и скоро превратился в темно-серый. Мы вышли в Охотское море. Оно считается самым коварным и бурным. Штормы на нем возникают часто и внезапно.
Неожиданно подул свежий ветер, качка усилилась, по волнам запрыгали белые «барашки», море стало мрачным и злым. Пассажиры с палубы исчезли.
Пройдя на нос парохода, где порой обдавало солеными брызгами от особо большой волны, я обнаружил замечательное зрелище: стая касаток — морских хищников в несколько метров величиной, — разрезая воду большими спинными плавниками, неслась в волнах рядом с носом парохода. Касатки все время сопровождали нас.
К вечеру волнение достигло восьми-девяти баллов. Пароход, казалось, с трудом взбирался на огромные волны и вдруг стремительно проваливался куда-то в бездну.
Страшная и величественная картина: темное небо с низко несущимися тучами, черное бушующее море и огромные, окаймленные белой пеной волны, временами обрушивающиеся на палубу. Лошади стали падать, ломать деревянные стойла, биться и калечить друг друга. Были вызваны аварийные команды, которые закрепляли на палубе ящики, плотней задраивали люки, успокаивали лошадей и укрепляли их стойла.
С каждой минутой шторм усиливался.
Я долго любовался бушующим морем и, только изрядно промокнув, пошел к себе в каюту. Мои друзья безмятежно спали и не интересовались величием разыгравшейся стихии.
Прилег на койку и я. Качка стала ощущаться сильнее. Крепко держась за борт койки, я долго боролся с признаками начинающейся морской болезни.
А на палубе что-то грохотало, скрипело и ломалось с громким треском. Пароход стонал, зарываясь в морскую пучину. Наконец я забылся тяжелым сном.
С рассветом шторм стал стихать. По небу неслись клочья разорванных туч, падал мелкий дождь. Море еще клокотало и пенилось, но уже с меньшим гневом.
В помещении над трюмами, в так называемом твиндеке, где разместилось большинство пассажиров, творилось нечто невообразимое. Шторм разбросал весь их багаж, и между грудами чемоданов и свертков бродили бледные, с позеленевшими лицами, еще так недавно бодро выглядевшие «покорители Севера».
Но волнение стихло, и обитатели парохода постепенно стали оживать. На палубе открывали задраенные люки, появились группы пассажиров, команда что-то чинила и исправляла после шторма.
Пароход окутывала серо-молочная мгла. К полудню туман еще более сгустился, и создавалось впечатление, что мы плывем в хлопьях ваты. Тоскующие звуки гудка, ревущего через короткие промежутки времени, действовали удручающе.
Прошло два дня. Туман, наконец, рассеялся, проглянуло солнышко и дало возможность определить местонахождение парохода.
Оказалось, что штормом нас отнесло далеко в сторону от курса. Пришлось изменить направление, и волны опять побежали за кормой.
Немного оправившись от шторма, пассажиры с ужасом почувствовали, что качка начала возрастать вновь. По совершенно спокойному морю плавно перекатывались небольшие волны, но нос парохода то высоко вздымался над горизонтом, то опускался так, что верхушки мачт, казалось, вот-вот окунутся в море.
Эта качка при спокойном море, называемая «мертвой зыбью», возникает всегда после шторма. Море на поверхности уже успокоилось, но где-то в глубине оно еще продолжает волноваться, и эта качка действует не меньше сильного шторма.
На шестые сутки нашего плавания подул резкий ветер и заметно похолодало. Ночи стали значительно светлей: мы приближались к широтам белых ночей.
Однажды днем пассажиры увидели впереди на горизонте белую полосу. Что это, пена, земля или какое-нибудь незнакомое явление? И, только приблизившись, определили,