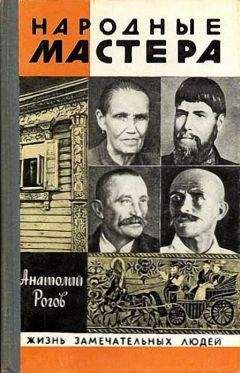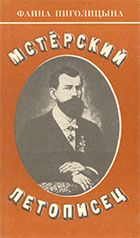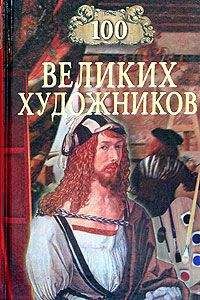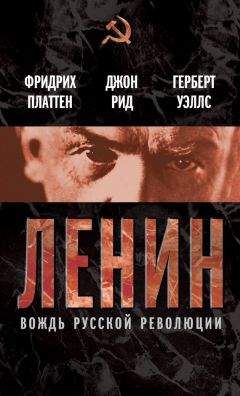Костистая, морщинистая и темная, как старое сухое дерево, скулы торчат, щеки запавшие, глазницы глубоченные. Нижняя губа чуть вперед и выпуклая. Суровое лицо, сильное. Раньше такие у властных игумений и монахинь-подвижниц встречались. Рот жесткий-жесткий. А глаза прямо диво: чисто-чисто голубые и столько света в них, столько любопытства, словно это не костлявая и некрасивая старуха, а шустрая девочка, только начавшая жить.
— Анна Афанасьевна, опять я запамятовал: вам семьдесят второй или семьдесят третий пошел?
— Ой, да че ты?! И семи десятков еще нет… Это была старая игра: она постоянно убавляла свои годы и страшно сердилась на дочерей, когда они вдруг при посторонних поправляли ее, могла полдня потом не разговаривать…
Я во сад пошла,
Во зелен пошла.
Клубок ниточек нашла.
Клубок маленький,
Нитки аленьки.
Клубок катится,
Нитка тянется…
Она все начинала неожиданно. Вот вдруг запела. Во рту ни одного зуба, шепелявит, будто шуршит словами, а слушать все равно приятно, потому что она знала толк в ладовом пении и изо всех сил, подчас очень забавно и трогательно, старалась держать его. Песен знала бесчисленное множество и некоторые такие старинные каких Алексей больше никогда и нигде не слыхивал.
Память у нее вообще была феноменальная: все, даже давние разговоры, дословно помнила, или во что кто когда был одет, или что где стояло и как выглядело. Больше того, совсем не зная грамоты, брала старые записки заказчиков и, водя по ним крючковатым пальцем, повторяла, в какой строчке какую игрушку они записали ей сделать…
Я за ниточку взяла,
Откусила, порвала…
— Про смерть-то думаешь, Лексей Иваныч?
— Бывает.
— А ты не думай! — приложила палец к губам, почти зашептала: — Я вот не боюсь! И ты не бойся… Никто не знает, когда помрет… А век мой к концу идет, это верно — не боюсь. Я свое-то отработала…
Теперь Афанасьевна сидела на краешке лавки, а на табуретке перед ней стояла старая сковородка, в которой она зеленым стеклянным пестиком растирала с водой комочки анилиновых красок: сурика, синьки, зеленки, крона, фуксина. Растирала старательно, долго, после каждой мыла сковородку, а Алексей смотрел на смену этих ярких пятен, вдыхал их легкий остренький запах, растекавшийся по избе, и все больше волновался. Потому что уже представлял, как совсем скоро Афанасьевна соскребет со сковороды последнюю полыхающую кашицу, соскребет прямо коричневым крючковатым пальцем, затолкает ее в очередную баночку, взобьет в миске яйца, перемешает их с красками, и тогда начнется самое удивительное и непостижимое, что она умеет делать. За двенадцать лет знакомства с нею он так и не привык к этому чуду.
— Вишь, вот так теперь мазаной и буду ходить, хоть и банилась нынче. Не наготовишься чистого-то… Иначе не поспею, к понедельнику обещалась… Огоньку прихватим, — это означало, что она собиралась работать и вечером. — Яиц-то, вишь, сколько я в краску вбухала! Нешто яйца раньше столько стоили? Где это видало?.. Ой, мне твои торговые кисти-то, ой как пришлись-то!..
Колодезный журавель за окнами покачивался, деревянная бадья терлась о сруб и тупо скрипела. Солнце исчезло.
В избушке все посерело, стало как будто еще меньше, еще ниже, еще беднее, а сметанно-белых и дымчатых глиняных фигурок стало как будто еще больше, и они все пододвинулись к Афанасьевне, теснились и на лавке, на краешек которой она присела, и на узком столе, и на печи, и на специальных сплошных полках под потолком.
— Говорят, сделайте все, какие, мол, за свою жизнь делали!.. А я разве упомню все-то?.. Их, может, двести разных было или сто…
Старуха оглядывалась. Остановившись на какой-нибудь фигурке, широко улыбалась, или восторженно охала, или подмигивала, или кланялась, или играла с ней пальцем, то есть каждую приветствовала по-своему, словно это живые существа, хотя даже в самой большой барыне было всего сантиметров двадцать, а парочки и целые сценки не выше десяти-двенадцати. Все очень мелкое. И все самой что ни на есть упрощенной лепки: ручки — гнутые колбаски, юбки — колокола, ноги — столбики, головы — подобия яичек.
— И ты хочешь?! Ну идем, идем, без такого молодца разве ж можно… — это всаднику.
— Ой, матушко!.. Вишь, Лексей Иваныч, какой богатый я ей наряд-то сделала. А она загордилась, фасонит…
Поза у этой глиняной девицы была действительно очень горделивой, забавно горделивой.
— Сейчас мы тебя еще расфуфырим, их-хи-хи!..
Она ставила отобранные фигурки на широкую, испачканную красками доску, перекинутую с табурета на опоясанный жестяными лентами сундук. На сундуке же, на заляпанной красками фанерке расположила подаренные Алексеем еще два года назад четыре сильно обтертые кисти и семь баночек с красками; семь потому, что черной было две: сажа на цельном яйце и сажа на одном желтке — эта по-особому блестела, когда высыхала.
— Ну будет! Тридцать разных — чего им больше-то.
Четыре из этих тридцати Алексей раньше у нее не видел: безбородого гармониста на скамеечке, которого слушала примостившаяся у его ног собачка, амазонку, бабу у колодца и охотника с ружьем и тоже с собачкой.
Афанасьевна развела фуксин до светло-розового и спросила гармониста:
— Тебе такая рубашечка приглянется?
И молниеносно выкрасила его рубашечку этим цветом, и тот полыхнул на сметанно-белом фоне с такой силой, точно это была не краска, а прозрачный огонь невиданного розового отлива. И нос собачонке ляпнула им же и он тоже загорелся.
Тятька телочку продаст,
На гармошку денег даст.
Мамка по миру пойдет,
Мне гармошку заведет.
Что, гармошка, не играешь?
Али тону в тебе нет?
— Во мне тону очень много —
Не хочу сейчас играть…
Через какие-то считанные минуты розовым фуксином понемножку были тронуты все тридцать фигурок — где кружочки, где клетки, где полосы. Только юбку у форсистой девицы тоже целиком залила. В избе же от этих брызг и пятнышек словно светлее стало. Потом Афанасьевна так же прошла все желтым кроном — этого не жалела и не разводила. И синего очень много пустила. И алого. И все эти цвета на сметанно-белом меловом фоне тоже вспыхивали и горели с неистовой яркостью, а сочетания их были такими контрастными, что, казалось, будто краски кричат, поют, позванивают, пересмеиваются, перекликаются со своей веселой, стремительной и неумолкающей хозяйкой. Расцвечиваясь, они точно обретали душу, эти маленькие глиняные существа. Всадник на коне, например, сидел статный и торжественный. И конь с дугообразными толстыми ногами был могуч и торжествен. Они, всадник и конь, слились в единый монолит, как и должен сливаться с конем настоящий наездник, отправившийся, конечно же, на праздник, так как куда же еще едут в желтом кафтане и высоком черном картузе, с румянцем во все щеки да на коне в черных и оранжевых яблоках… А старорежимный офицерик получил темно-синие штаны, кирпичного цвета мундир и красные эполеты. Спереди на него посмотришь — ничего особенного: талия узкая, руки в карманах, ноги врозь. А в профиль повернешь — грудишка впалая, головка, как огурец, длинная, одни только ноги здоровенные и есть, да растопыренный книзу мундир — типичный офицер-хиляк, которых в конце империалистической развелось видимо-невидимо… А рядом — мещаночка-горожаночка. Вся налитая, на крепких, широко расставленных ножках с мощным задом, плотно посаженной головой в меховой шапочке, руки в муфте; вся бело-желто-синенькая с яркими розовыми горохами по подолу. Кровь с молоком