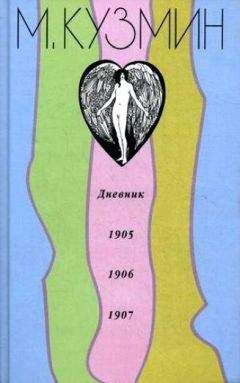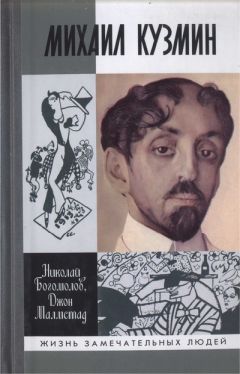Таким образом, свидетельства дневника оказываются совершенно бесценными как для интересующегося Кузминым читателя, так и для историка, воссоздающего облик эпохи. Но чтобы верно проникнуть в его суть, надо обладать определенным ключом или ключами, ибо далеко не на все интересующие читателя вопросы текст отвечает прямо и недвусмысленно. Скорее, наоборот: довольно часто попадаются непонятные, зияющие провалы. Целые недели, если не месяцы, оказываются пропущенными или заполненными записями о мелочах повседневной жизни. Некоторые упоминаемые люди скрыты так, что «вычислить» их личность почти не представляется возможным. Чаще всего к минимуму сведены суждения о литературе и искусстве. Порой приходится лишь догадываться о том, что Кузмин в том или ином случае имеет в виду, и далеко не всегда эти моменты поддаются точному комментированию: слишком многого о жизни Кузмина мы не знаем.
Прежде всего, конечно, это касается событий, происходивших до того момента, с которого дневник до нас дошел, но оказывавших влияние на всю последующую жизнь. Уж, казалось бы, сведения о спутнике Кузмина по путешествию в Египет «князе Жорже» найти должно быть легко: офицер Конного (так чаще всего называли Конногвардейский) полка, на несколько лет старше, умер от болезни сердца в Вене, причем дата смерти устанавливается без труда… Но ни просмотр газетных некрологов, ни поиски в приказах по армии, фиксирующих всякие перемены в списках, в том числе увольнение или смерть, не дали ничего. Стало быть, в личности этого человека есть некоторая загадка, не поддающаяся пока разрешению. То же относится к годам увлечения Кузмина старообрядчеством: долгие годы считалось, что он сам был старообрядцем (иногда даже говорилось и о старообрядчестве его родителей, что решительно невозможно). Кажется, после чтения дневника не остается сомнений, что в раскол он действительно не входил, но круг его общения той эпохи остается загадочным, так же как очень многие — и важные! — обстоятельства итальянского путешествия и его ближайших последствий[12]. Но не меньше загадок оставляют нам и годы, когда дневник уже существовал. Откуда, например, взялся в жизни Кузмина Юрий.
Юркун, его многолетний спутник? Можно только догадываться. Как Кузмин познакомился с Гумилевым или с Вагановым? Что скрывается за фразой С. Ю. Судейкина, обращенной к актрисе В. В. Ивановой: «Я бы вам дал пощечину» (фраза эта попала и в повесть «Картонный домик»[13])? Что означают критические замечания о споре, в результате которого появилось стихотворение Анненского «Моя тоска» (запись от 11 ноября 1909 года)?
Подобные примеры можно множить. Отвечая на ряд вопросов, дневник М. А. Кузмина ставит не меньше новых. Поэтому читатель дневника должен не только читать сам текст и комментарии к нему, но и знать основные поэтические и прозаические произведения Кузмина, так как только соположение текста автокоммуникативного (каким является дневник) с различными художественными даст возможность увидеть образ автора. Совершая мысленный путь от дневника к прозе и поэзии, а от них снова возвращаясь к дневнику, читатель обретает возможность воссоздать тот текст жизни, который оставил нам М. Кузмин.
Идея издать дневник либо продать его коллекционеру рукописей обдумывалась Кузминым начиная с 1918 года, когда он делил с Ю. И. Юркуном и матерью Юркуна В. К. Амброзевич полунищенское существование. Обсуждалась эта мысль, в частности, с коллекционером С. А. Мухиным[14] и с книготорговым кооперативом (впоследствии издательством) «Петрополис», в правление которого входил Кузмин[15]. Вероятно, в то время была сделана машинописная копия с первой тетради дневника, о которой мы уже говорили и экземпляры которой хранятся в РНБ и в РГАЛИ[16]. Однако проектам издания не суждено было осуществиться. Более того, можно предположить, что в результате неудачных коммерческо-издательских попыток были утеряны две тетради дневника — а именно VII (29 октября 1915—12 октября 1917) и IX (28 июля 1919—27 февраля 1920). Впрочем, это предположение совсем не безоговорочно: вполне возможно, скажем, что в тетради IX были упоминания о дезертирстве Юркуна, подделавшего документы, дабы избежать мобилизации в Красную Армию, и Кузмин, опасаясь за своего спутника, сам мог уничтожить тетрадь перед продажей дневника московскому Государственному литературному музею (о чем будет сказано ниже).
В дальнейшей судьбе дневника Кузмина, по-своему драматичной, отразились многие характерные черты эпохи, когда бумаги, рукописи, документы стали играть в жизни человека роль неизмеримо более важную, нежели прежде, зачастую превращаясь в вещественные доказательства.
В ночь с 13 на 14 сентября 1931 года сотрудники ЛенОГПУ поднялись на пятый этаж дома 17 по улице Рылеева и произвели в комнатах Кузмина и Юркуна обыск и то, что на их профессиональном жаргоне называлось «выемкой». Формально обыск был связан с Юркуном, хотя неясно, что же ему инкриминировалось. Чекисты изъяли коллекции Юркуна, его рукописи и рисунки, а также три последних по времени тетради дневника Кузмина (XX, XXI и XXII — с 29 июня 1929 по 13 сентября 1931).
На следующий день Кузмин начал тетрадь XXIII своего дневника с упоминания о прошедшем накануне обыске. На сей раз дневник представлял собой стопку непереплетенных листков формата записной книжки или маленькой тетрадки. Записи были предельно лаконичны, возможно, сознательно «затемнены» от постороннего взгляда[17]. Одновременно Кузмин активизировал попытки продать свой дневник, так как основания для опасений, что его могут просто изъять, были более чем вескими.
В конце 1933 года эти попытки увенчались полным успехом, какого Кузмин, кажется, даже не ожидал (судя по тональности его благодарственных писем директору Государственного литературного музея В. Д. Бонч-Бруевичу). Гослитмузей в Москве, через своего представителя в Ленинграде Ю. А. Бахрушина, по предложению художника Н. В. Кузьмина, приобрел дневник и ряд рукописей Кузмина, причем за дневник Кузмин получил огромную для себя сумму — 20 000 руб., в то время как за прочие рукописи архива ему выплатили всего 5 000 руб. 17 декабря 1933 года писатель сообщал Ю. А. Бахрушину о получении денег: «Дорогой Юрий Алексеевич, я послал расписки в получении денег Владимиру Дмитриевичу <Бонч-Бруевичу>. Дошло все благополучно, хотя почтовое отделение и было потрясено, и мы ходили дважды с чемоданами получать мои тысячи, как в старом кино „Ограбление Виргинской почты". Да, значит: архив ушел, деньги уйдут, но, надеюсь, приобретенные при этом хорошие отношения останутся»[18]. В письме к В. Д. Бонч-Бруевичу Кузмин писал, что продает дневник «с правом обнародования после моей смерти, а если при жизни, то всякий раз с моего разрешения»[19].