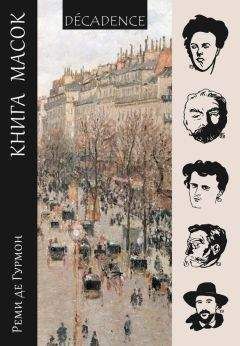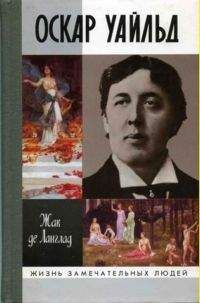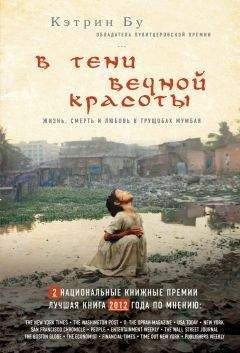Где-то среди туманов – остров. На острове – замок. В замке – большой зал, освещенный маленькой лампой. В зале – люди, которые ждут. Ждут – чего? Они не знают. Они ждут, что вот придут и постучатся к ним в дверь. Ждут, что потухнет лампа. Ждут Страха. Ждут Смерти. Они изредка произносят слова. Да, они роняют слова, на мгновение нарушающие тишину. Но не докончив фразы, остановив свой жест, они опять прислушиваются. Они слушают, ждут. Придет, или не придет? Придет! Она приходит всегда! Уже поздно. Быть может, она придет лишь завтра! И люди, собравшиеся в большом зале, освещенном маленькой лампой, улыбаются. Они надеются. И вот, наконец, раздается стук. Это все. Это – целая жизнь. Это – вся жизнь.
Маленькие, прелестно-ирреальные драмы Метерлинка отличаются глубокой естественностью и правдивостью. Его герои, похожие на видения, полны жизни. Они похожи на те шары, которые, будучи заряжены электричеством, выбрасывают лучи при одном прикосновении шпильки. Это не отвлечения – это синтезы. Действующие лица его драм – это отдельные состояния одной человеческой души, или, вернее, отдельные состояния коллективной души всего человечества. Это миги, минуты, которые могли бы стать вечными: они реальны именно потому, что ирреальны.
История литературы уже знает примеры такого рода искусства. Со времени «Roman de la Rose»[4] беллетристы с религиозным направлением мысли стали вводить в свои неуклюже претенциозные творения символы и абстракции. «Le Voyage d'un Homme Chrétien»[5] Бюниана, «Le Voyage spirituel»[6] испанца Палафокса, «Le Palais de l'Amour divin»[7] анонима – за всеми этими произведениями нельзя отрицать известного значения. Но в них все слишком ясно, действующие лица этих романов выступают под слишком прозрачными именными значками. Можно ли себе представить какой-нибудь свободный театр, на котором была бы поставлена драма с такими героями, как Сердце, Ненависть, Радость, Гнев, Молчание, Забота, Вздох, Боязнь и Невинность. Время для подобных забав уже прошло, или, может быть, еще не вернулось. И вместо того, чтобы перечитывать «Le Palais de l'Amour divin», прочтите «Смерть Тентажиля», ибо только от новых произведений мы можем требовать эстетического наслаждения, одновременно и совершенного, и захватывающего, и мучительного. Метерлинк притягивает и увлекает, он опутывает нас, как осьминог, мягким шелком волос уснувших принцесс, среди которых забылся тревожным сном ребенок, «печальный, как молодой король». Он захватывает и уносит нас в глубокие бездны, где в бурном водовороте «кружится разлагающийся труп ягненка Аладина», и еще дальше – в туманные, безгрешно-чистые страны, где влюбленные говорят друг другу такие слова: «Как строго и серьезно ты целуешь меня»… «Не закрывай своих глаз, когда я так целую тебя. Я хочу видеть поцелуи, которые дрожат в твоем сердце, и благодатную нежность, которая поднимается со дна твоей души. У нас не будет больше таких поцелуев»… «Всегда, всегда»… «Нет, нет, два раза нельзя целовать в объятьях смерти». При таких словах, при таких прекрасных вздохах, замирает всякое возражение. Невольно умолкаешь, почувствовав, что можно выражать любовь словами. Да, это поистине новая форма любви. Индивидуальность Метерлинка необыкновенная. Не изменяя себе, он умеет извлекать звуки даже из одной струны. Но эта струна сплетена у него из нитей конопли, им самим посеянной и взращенной. Он сам мочил и трепал эту коноплю, и струна поет под его изнемогающими пальцами, грустная, несравненная и нежная.
Метерлинк создал великое творение. Он нашел глухой нежданный крик, какой-то холодный, зыбкий, мистический стон.
Мистицизм – это слово в последние годы приобрело много различных и даже противоположных значений, и следует заново и точно определять его каждый раз, когда в нем встречается необходимость. Некоторые придают ему значение, сближающее его с другим, более новым словом: индивидуализм. И несомненно, эти два понятия соприкасаются между собою, ибо мистицизм можно рассматривать, как такое состояние, в котором, не чувствуя себя связанной с миром физическим, отрешившись от всего случайного и неожиданного, душа исключительно отдается непосредственному слиянию с бесконечным. Но если бесконечное неизменно и едино, то души людей разнообразны и множественны. Каждая из них говорит с Богом на своем языке, о вещах, которые ее только и волнуют. И Бог, хотя и единый, открывается каждому живому существу в тех формах, в каких оно Его может постигнуть. Он никогда не говорит одному того, что уже сказал другому. Свобода – вот привилегия души, дошедшей до мистицизма. Тело для нее – сосед, которому она советует хранить молчание. Но если тело все-таки заговорит, она его слушает как бы через стену. Если оно начинает действовать, она смотрит на него сквозь дымчатый покров. Исторически такое состояние души известно еще под именем квиетизма. Фраза, в которой Метерлинк рисует Бога улыбающимся нашим тягчайшим ошибкам, как улыбаются, глядя на играющих на ковре собачек, несомненно фраза квиетиста. Она серьезна и кажется справедливой, особенно, когда подумаешь о том, как мало значения имеют наши поступки, как эти поступки совершаются, с какою силою нас увлекает за собой нескончаемая цепь причин и следствий и как мало наши действия зависят от нас, даже наиболее решительные из них, наиболее обоснованные. Такая мораль, предоставляя жалким человеческим законам творить свою бесплодную работу, вырывает у жизни ее сущность и переносит ее в другие, высшие области. Только там, в сфере, огражденной от всяких случайностей, унизительных случайностей социального характера, жизнь может дать свои лучшие плоды. Мистическая мораль не признает того, что не отмечено двойной печатью человечности и божественности. Поэтому она всегда внушала страх духовенству и судебным учреждениям, ибо, отрицая внешнюю иерархию, она этим отрицает, хотя и пассивно, социальный порядок: мистик может согласиться на всякое рабство, но никогда не унизится до холопской обязанности быть гражданином. Метерлинк уже провидит то время, когда души всех людей сольются в нечто единое, как сливаются они теперь с Богом в своих мистических настроениях. Но возможно ли это? Станут ли когда-нибудь люди истинными людьми, существами настолько свободными и гордыми, что они будут исходить в своих суждениях только от Бога. Метерлинк уже видит эту новую зарю, потому что он смотрит во внутрь себя, потому что он сам эта заря. Но если бы он посмотрел на человечество извне, он увидел бы лишь грубое стремление социалистической культуры к общему корыту, к общему стойлу. Те смиренные натуры, для которых он писал свои божественно-прекрасные книги, не будут их читать. А если и прочтут, то увидят в них одну лишь насмешку. Им твердили об общем корыте как о высшем идеале, и теперь они не смеют поднять своих глаз к небу. Они знают, что вожди жизни строго их за это накажут.