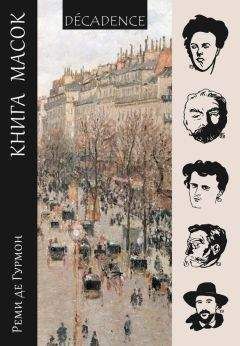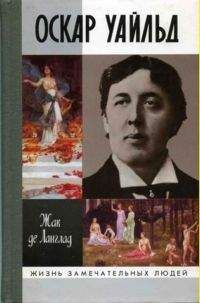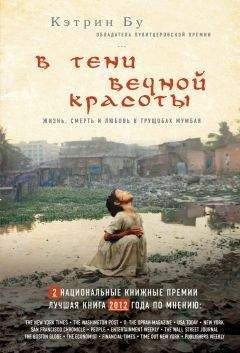Поэтому «Сокровище Смиренных», эта книга любви и освобождения, заставляет меня с горечью думать о жалкой участи не только современного человека, но, вероятно, и человека будущих времен.
Великолепное, но ждет освободиться,
Чтоб той стране не петь, где ей пришлось родиться,
Когда скупой зимы засветится тоска.
И напрасно
Власть злой агонии вся шея жаждет сбросить.
Час освобождения пройдет, но только немногие услышат его призыв.
А между тем, сколько залогов освобождения можно найти на страницах Метерлинка, где ученик Рейсбрука, Новалиса, Эмерсона и Гелло (двое из этих писателей, наименее значительные, все же обладали интуицией настоящих гениев), раскрывая простые намеки великих умов, смело пускается в исследование темного мира идей. И средний человек, и человек высокой сознательности, все те, у кого чувства никогда не поднимаются до пафоса, нашли бы у него поддержку для своей души, научились бы, руководимые им, ценить поэзию повседневных интересов, всю прелесть тихой и глубокой внутренней работы. Они постигли бы смысл смирения, бесцельных слов. Они поняли бы, что смех ребенка и щебетание женщины, заражающие своею душевностью и волнующие своею непонятностью, так же значительны, как и самые блестящие речи Мудрецов. Метерлинк настоящий Мудрец. Он изливает перед нами свои мысли, необычные, наивно отрицающие всякую психологическую традицию, дерзновенно отбрасывающие от себя всякие шаблоны, смело устанавливающие за вещами лишь то значение, какое они действительно имеют в мире конечных явлений. Так, например, элемент чувственности совершенно отсутствует в его логической работе. Он понимает значение, но знает также и ничтожность волнения нервов и крови – той грозы, которая предшествует мысли, иногда ее заканчивает, но никогда не сопутствует ей. И если он и распространяется о женщинах, лишенных души, то только для того, чтобы обследовать «мистическую соль поцелуя, в которой запечатлелось навеки воспоминание о встрече влюбленных уст».
Лирические или философские творения Метерлинка явились в то время, когда мы так жадно искали всего, что возносит, всего, что может дать логическую опору, в тот час, когда мы уже без всякого равнодушия внимали словам о высшей цели жизни, о «больших дорогах», ведущих от видимого к невидимому. Метерлинк не только открыл перед нами эти широкие дороги, проторенные подвигами добрых душ прошедших времен, эти широкие дороги, на которых отдельные великие умы, точно оазисы в пустыне, уже разливали вокруг себя атмосферу любви, но еще и углубил и расширил их по направлению к бесконечности. Им были сказаны слова «такие тихие», «такие прекрасные», что сами собой расступились терновые кусты и исчезли деревья. Стало возможно сделать еще один шаг, стало возможным расширить горизонт сегодняшнего дня.
Может быть, другие поэты владеют или владели более простым стилем, более творческим воображением, более тонкой наблюдательностью, более яркой фантазией и большим талантом в передаче музыки человеческой речи. Пусть так! Но при всей робости и бедности своего языка, при наивности своих детских драматических концепций, – при всех этих недостатках и многих других, – Морис Метерлинк создал целый ряд книг, несомненно оригинальных, несомненно новых. Эти книги еще долго будут приводить в смущение жалкую толпу ненавистников всякого новшества, чернь, которая готова простить дерзновение, если уже имеются прецеденты, занесенные в протоколы истории, но которая с недоверием взирает на гения, являющего из себя одно непрерывное дерзновение мысли.
Из всех современных поэтов, этих Нарциссов, влюбленных в собственный лик, Верхарн менее других позволяет любоваться собой. Он суров, буен и неловок. Занятый в продолжение двадцати лет выковыванием странного, магического инструмента, он укрылся в какой-то горной пещере, где стучит молотом по раскаленному железу среди отблесков пламени и целого моря огненных искр. Его следовало бы изобразить кузнецом.
Как будто души он ковал,
Так сильно ударял металл,
Куя молчанье и терпенье.
Если найти Верхарна и задать ему какой-нибудь вопрос, он ответит параболой, в которой каждое слово звучит, как стук железа, и заключит свою речь новым сильным ударом молота по наковальне.
Когда Верхарн не работает в своей кузнице, он бродит по полям и окрестным деревням, с открытою душою, готовый все запечатлеть, и фламандские деревни раскрывают ему свои тайны, которых они никому еще не рассказывали. Он видит вещи, полные чудес, и не удивляется им. Перед ним проходят странные существа, с которыми мир постоянно сталкивается, не замечая их, существа, видимые только для него одного. Он встречал ноябрьский ветер:
Ноябрьский холодный ветер,
Ветер,
Кто же встретил дикий ветер
На распутье ста дорог?
Он видел Смерть, и притом не раз. Он видел Страх, он видел безмерное Молчание, «сидящее с глубокой Ночью рядом».
Наиболее характерное слово для поэзии Верхарна: «галлюцинировать». Оно встречается на каждой странице. Написав целую книгу о «Галлюцинирующих Деревнях», он не освободился от мысли о всеобщей галлюцинации. И тут нет никакого внешнего колдовства над ним: в самой природе Верхарна заложена склонность быть поэтом галлюцинирующим. «Наши ощущения, – говорит Тэн, – это настоящие галлюцинации». Но где начинается истина и где она кончается? Кто может это определить? Поэт, у которого нет никаких психологических колебаний, не делает никаких разграничений между истинными галлюцинациями и ложными. Для него все галлюцинации истинны, если только они остры и сильны, и он передает их нам в наивном рассказе. А когда о них повествует такой поэт, как Верхарн, рассказ блистает красотой. Красота в искусстве – это понятие относительное. Она получается из смешения самых различных элементов, часто совершенно неожиданных. Из этих элементов только один отличается постоянством, прочностью и встречается во всех комбинациях: это стремление ко всему, что ново. Произведение искусства необходимо должно отличаться новизною – эту новизну мы узнаем по тому ощущению неизведанного, которое оно в нас вызывает.
Если же произведение не дает такого неизведанного ощущения, то каким бы прекрасным его ни считала толпа, в действительности оно должно быть признано отвратительным и достойным презрения. Оно бесполезно и по одному этому безобразно, ибо нет в мире ничего полезнее красоты. У Верхарна красота создана из новизны и силы. Этот поэт истинно могуч. Со времени его «Галлюцинирующих Деревень», которые произвели впечатление настоящей геологической катастрофы, уже никто не посмеет оспаривать у него значения и славы великого поэта. Быть может, магический инструмент его слова, над которым он работает в течение двадцати лет, еще не отделан до конца, быть может, речь его еще не отличается настоящим высоким искусством, и все его творчество имеет неровный характер. На лучших страницах у него рассеяно множество неуместных эпитетов, а в талантливейших поэмах встречается немало того, что некогда считалось прозою. Но тем не менее близкое знакомство с его поэзией дает впечатление силы и мощи. Несомненно: это истинно великий поэт. Прочтите хотя бы этот отрывок из его «Les Cathéd-rales»[8]