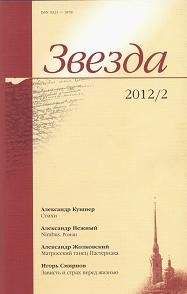Дом, в котором мы поселись, находился на углу Кировского проспекта и Песочной улицы (теперь улица Попова). Квартира — на шестом этаже. На самом деле это была квартира двух дедушкиных братьев — Василия Дмитриевича и Семена Дмитриевича. Но старший брат деда, Семен (участник еще Русско-японской войны), почти постоянно жил на родине, в Боровичах, и его комната была свободна. Вот в ней-то мы теперь все впятером (мама, папа, я, дедушка, бабушка) и поселились.
Еще в квартире на тот момент оставались: дядя Вася, преподаватель Института транспорта (я привыкла называть дядями дедушкиных братьев, как их называл папа), тетя Надя, жена дяди Васи, двое детей сестры моего деда — Ниночка, студентка пединститута, и Васютка-маленький, тоже студент. В армию его не мобилизовали из-за очень сильной близорукости.
В начале войны он ушел в народное ополчение. Поскольку фронт был совсем рядом, Васютке удалось пару раз побывать дома в увольнении. А в конце декабря к нам зашел его однополчанин и сообщил, что Вася убит.
Наша комната была большая, с высоким потолком и двумя огромными окнами, а потому очень холодная, особенно при полном отсутствии нормального отопления и в условиях небывало суровой зимы. Окна стали занавешивать одеялами (все равно в темное время суток должно быть затемнение), а для отопления папе на заводе сделали печку-буржуйку. Печка была железная, круглая, чуть больше ведра и на ножках. Ее труба была выведена в окно. Топили чем придется. Иногда на заводе папе выдавали какие-то обрезки на дрова.
Раздобыли два ведра — одно для воды, а другое вместо туалета. Расходовать воду и заполнять туалетное ведро приходилось очень экономно, потому что ни водопровод, ни канализация не работали. Туалетное ведро нужно было выносить во двор, а за водой ходить на Неву. Даже для выноса туалетного ведра нужно было спуститься с шестого этажа и подняться обратно (ведь лифт не работал), а принести воду с Невы было и того труднее. При крайне скудных продовольственных пайках все быстро отощали, потому любая физическая нагрузка требовала предельного напряжения сил.
Дедушка с бабушкой поместились на кровати, а мы с мамой и папой — на полу на матрасах. Спать ложились рано, часов в шесть-семь, чтобы экономить силы, топливо и масло для коптилки. Коптилкой назывался самодельный светильник, вроде лампадки, состоявший из пузырька, куда наливалось масло (которое могло гореть, но не годилось в пищу) или керосин, если был. Туда опускался фитилек, скрученный из ниток и пропущенный в тонкую трубочку, которая поддерживалась на горлышке пузырька жестяным кружочком. Примерно так освещались эскимосские жилища. Но эскимосы использовали в светильниках тюлений жир, а нам такая роскошь была недоступна (будь у нас тюлений жир, он сразу же был бы съеден), поэтому в коптилки наливали бог знает что (если не удавалось достать керосин) и коптили они нещадно, оправдывая свое название.
Спали в пальто и валенках (у кого они были). Сверх этого укрывались всем, чем только можно. И все равно к утру становилось очень холодно. Поначалу долго не давало заснуть нестерпимое чувство голода. После еды оно не проходило совсем, а только немного приглушалось. Со временем оно притупилось и стало просто частью существования.
Утром папа вставал первым, чтобы идти на работу, и растапливал буржуйку. Печка быстро нагревалась, начинала потрескивать, бока у нее становились красными. Комната отогревалась. Мы могли подняться и попить горячей воды, которую папа кипятил на печке.
Нам повезло — мы еще долгое время могли понемногу пить и чай и кофе из бабушкиной коллекции. Она была страстной любительницей чаепития, и лучшим подарком для нее был хороший чай в жестяной банке из фирменного магазина или какой-нибудь экзотический кофе. Все друзья и родственники это знали и на день рождения и другие праздники старались делать ей именно такие подарки. В результате у бабушки скопилась небольшая коллекция чая и кофе. Все это богатство папа привез в Ленинград из Колпина.
Расходовали мы эти запасы очень экономно. Использованную заварку и кофейную гущу не выбрасывали. Из них потом жарили лепешки на олифе, маленькие, как печеньица. Я следила, чтобы мама их делила строго поровну между всеми членами семьи.
Пищевых отходов в нашем нынешнем понимании вообще не стало. Например, очистки от той картошки, что папа привез из Колпина, отмывали, натирали на терке и пекли из них какое-то подобие лепешек. Потом картошка кончилась — кончились и очистки.
Еще 10 декабря папа записал в дневнике: «Выдачи никакой нет». И 11-го, и 12-го, и еще много дней подряд он мог бы делать такие же записи. В дневнике эти дни просто пропущены. А мама каждый день ходила и ходила в магазин, надеясь получить по продуктовым карточкам хоть что-нибудь. Ходить ей приходилось очень далеко, так как карточки были прикреплены до конца месяца к магазину в том районе, откуда мы переехали на Кировский. Тут уж ничего нельзя было поделать.
Далеко не все теперь знают, что такое карточки. А это были такие продолговатые листочки бумаги в треть тетрадного листа, отпечатанные в типографии. С левой стороны были категория карточки и сведения о магазине, к которому она прикреплена, а все остальное поле разграфлено на маленькие, меньше почтовой марки, талончики, в которых обозначена норма разовой выдачи продуктов — жиров, круп, сладкого. Для работающих норма больше, для неработающих — меньше. При покупке по карточкам продавец отрезал ножницами от карточки соответствующее количество талончиков. Выдавались карточки на месяц вперед и при утере не возобновлялись. Поэтому человек, потерявший карточки, рисковал просто умереть, не дожив до конца месяца.
На хлеб были отдельные карточки. И когда по продовольственным карточкам много дней подряд не выдавали ничего, надежда была только на хлеб. Правда, то, что называлось хлебом, было выпечено лишь с небольшим добавлением муки. А из чего оно состояло в основном, бог весть. Но нормы и этого «хлеба» были такими мизерными, что теперь и представить себе трудно, что это была вся еда на целые сутки.
А зима в 1941 году стояла совсем не похожая на обычную ленинградскую зиму — постоянные морозы в 20–30 градусов и ниже. Как мама это выдержала, до сих пор не понимаю. Теперь, возвращаясь памятью к тем дням, я думаю, что мы выжили только благодаря ей. Ведь кроме похода в магазин ей надо было вынести помои, сходить за водой и позаботиться о топливе для печки — и все это в мороз и при самом скудном питании. Бабушка, а ей было всего пятьдесят четыре года, из квартиры не выходила, дед, которому было шестьдесят пять, вообще по большей части лежал.