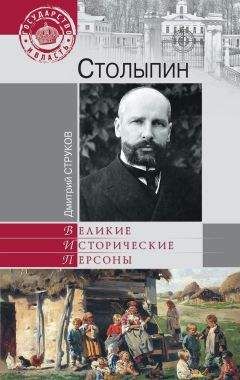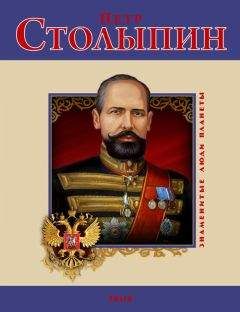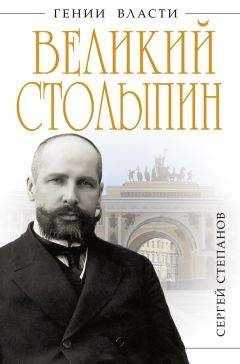«Революционер – человек обреченный, – писал идеолог и зачинщик русского терроризма С. Нечаев. – […] Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благородности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. […] Он не революционер, если ему чего-либо жалко в этом мире. Он знает только одну науку – науку разрушения»[11].
Жертвами революционного террора становились старики, беременные женщины и дети. Революционеры взрывали храмы, оскверняли святыни, покушались на жизнь авторитетных представителей духовенства. Накануне революции в Петербурге неизвестными был похищен подлинник Казанской иконы Богородицы, а в ходе самой русской смуты террористы заложили бомбу под другой особо почитаемый образ Богоматери – Курской Коренной[12]. Святыню чудом удалось спасти, но сама попытка ее уничтожения со всей очевидностью обнажила темные силы в нарастающей революционной борьбе. Классовая борьба выливалась во все более жестокие формы, все больше походя на ненависть дьявола к самому человеку[13]. Распространенным явлением 1905–1907 гг. стало надругательство над фундаментальными основами человеческого общежития: таинство брака было подменено свободной любовью, семья заменяется сожительством, гимназисты порывают с родовыми и семейными корнями. В газетах и на митингах вовсю чернят историю своей родины, издеваются над патриотизмом, глумятся над церковью и кричат: «Бога нет!» Это была та самая бесовщина, о которой говорил Ф.М. Достоевский в романе «Бесы». «Революцию не понять, – писал английский историк и философ Томас Карлейль, – если не допустить, что за кулисами ее действовали бесовские силы»[14].
Ни циничная политтехнология С.Ю. Витте, предлагавшего царю бросить кость оппозиции, ни предложения крайне правых затопить кровью русскую смуту, никакие другие безнравственные средства не могли преодолеть эти темные силы. Здесь был востребован иной – духовный – путь борьбы.
«…Кто ценит себя, свою личность, свое призвание, – писал современник событий публицист А.С. Суворин, – тот не уходит со своего поста, пока есть в нем силы. В этом и заключается мужество. …С мужеством палачей террористической партии… можно бороться только мужеством. Понижение этого мужества будет окончательным унижением власти, за которым может последовать полная анархия в России. Кто трус, пусть уходит. Кто не чувствует призвания и способностей служить России – пусть уходит. Но в ком есть убеждение, что он может быть полезен Родине, что сердце в нем горит патриотизмом и желанием водворить и утвердить новый порядок, тот должен оставаться, несмотря на взрывы, угрозы, отцовское горе, болезни жены и детей. Война отвергает все эти чувства, всякие сентиментальности. Она выше семьи, потому что на войну зовет Родина. Как Христос требовал, чтобы всякий, желающий идти за ним, оставил своего отца и свою матерь, так и Родина. …Наше время требует всего человека, всей его души, всей жизни»[15].
Предшественники Столыпина – либеральный С.Ю. Витте и престарелый консерватор И.Г. Горемыкин, – несмотря на свои государственные таланты, оказались к таким шагам не способны. Они придерживались больше внешних форм, боязливо озирались: один на мнение снизу – общественных течений, другой на мнение сверху – царя и высшей бюрократии. Страна нуждалась в государственном человеке, в котором органически соединялись бы способность к творчеству, вера, нравственное подвижничество и мудрость управленца. Царь и здравомыслящая часть России с надеждой ожидали его появления. Тогда, в кровавом 1905-м, народ в основной своей массе еще хранил духовный потенциал минувшего столетия. Уже в декабре, переболев митинговым безумием, трудящиеся классы стали постепенно возвращаться в ограду церкви. Рабочие и крестьяне, потрясенные ужасами революционного насилия, сопровождавшегося кощунством и грабежами, встали на молитву о спасении России[16].
Это разбуженное в народе духовное движение – не утоленная революцией тоска по справедливой, совестливой власти – взывало к новому водителю. «Звезда Столыпина, – пишет историк В.В. Казарезов, – взошла на российском политическом небосклоне не случайно. Он был востребован историей именно в столь драматический момент, потому что лучше, чем кто-либо другой, был способен помочь России, а вернее, спасти ее, вывести с минимальными потерями из грозных общественных катаклизмов…»[17]
Восхождение Столыпина началось на юго-востоке, в далеком провинциальном Саратове. В 1903 году он становится саратовским губернатором, получив личный наказ от царя поправить положение дел в губернии. Поволжский край считался одним из слабых звеньев внутренних провинций империи. В губернской администрации и дворянском самоуправлении остро ощущался недостаток в культурном и образованном элементе. «В некоторых уездах, – докладывал Столыпин императору, – с большим трудом избираются даже уездные предводители дворянства»[18]. Такое положение приводило к падению авторитета распорядительной власти уже на уездном уровне. Отсюда злоупотребления волостных властей, их произвол и коррупция.
«Мне пришлось в одной волости, – писал Столыпин жене о своей ревизии в Царицынском уезде, – раскрыть такие злоупотребления, что я тут же, расследовав весь ужас, перенесенный крестьянами […] тут же уволил вол[остного] писаря и земскому начальнику приказал до Нового года подать в отставку. […] Крестьяне говорили: “Совесть пропита, правда запродана”; “ждали тебя, как царя”. Ждали ведь они 25 лет […], но тут, чтобы водворить порядок, надо бы год не выходить из волостей. Дай-то мне Бог хоть немного очистить эти авгиевы конюшни»[19].
Не хватало в Саратовском крае и правоохранительных сил. На громадных просторах губернии один пеший полицейский приходился на 20 квадратных верст, а наемное кавалерийское спецподразделение из казаков не превышало численностью 60–80 сабель. При таком дефиците административного ресурса новому губернатору было нелегко поддерживать элементарный порядок. А между тем социальная напряженность в крае нарастала с каждым годом. Местное крестьянство, задыхавшееся от малоземелья, легко поддавалось революционной пропаганде. Давали о себе знать и бунтарские гены. Здесь хорошо помнили Разина и Пугачева, некогда превративших Саратов в форпост крестьянской войны. Уже в первый год губернаторства Столыпин столкнулся с массовым неповиновением крестьян. «Население, – сообщал Столыпин царю, – местами весьма разнузданное, склонно снисходительность считать за слабость и чуть ли не за поощрение со стороны правительства»[20].
Еще год оставался до революции, а губернатору уже приходилось усмирять волнения саратовских крестьян.