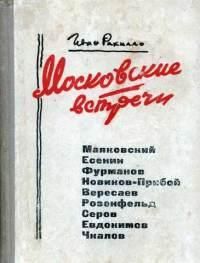По дружелюбной фамильярности старика маркера можно было без труда определить, что Маяковский тут не редкий гость.
За соседним столом играли на бильярде поэт Жаров и Афиногенов.
— Только я без денег не играю, — шутливо заметил Владимир Владимирович, натирая мелом кий. — Но так как вы писатель ещё небогатый, то мы установим такое условие: первая партия — пятьдесят копеек, вторая — рубль и т. д. В общем, каждая следующая ставка удваивается.
Маяковский играл прекрасно, с особым бильярдным блеском, сразу находил шар и тут же, со снайперской точностью, почти не прицеливаясь, всаживал его в лузу. Каждый свой удар он сдабривал острым словом, шуткой.
Скоро вокруг нашего стола образовался круг болельщиков. Афиногенов и Жаров держали пари за меня и всё время подогревали игру.
Маяковский играл без пиджака, почти не вынимая изо рта папиросы.
В игре увлекло меня лицо поэта, увиденное неожиданно в новом наклонном ракурсе — со лба. Маяковский был высокого роста, и все обычно привыкли видеть его снизу, с подбородка: в этом ракурсе его лицо приобретало тяжёлую скульптурную монументальность. На самом же деле, с точки зрения обычных пропорций, подбородок у Маяковского не был большим (хотя многие художники и скульпторы до сих пор бьются и не могут найти эту неуловимую и характерную для выражения лица поэта значительность, — они искусственно утяжеляют ему подбородок и сразу теряют сходство).
А подбородок у Маяковского был, как это ни покажется странным, совсем не резко выраженного, а даже наоборот — мягкого контура. Монументальность поэту придавали его рост, плечи, широкий великолепный рот оратора и жгучие, полные ума, человечности и ощущения скрытой силы огромные выразительные глаза.
Но в тот вечер меня больше всего поразило его ни с чем не сравнимое озорное настроение. Мне удалось подсмотреть лицо поэта в минуту чистой, детской откровенности, с улыбчивым прищуром глаз, с падающей на лоб прямой прядкой волос, эти добрые, развесёлые ямки на щеках и притворно-хитрое выражение озорника-школьника, желающего чем-нибудь «насолить» своему приятелю, подшутить над ним.
Вскоре, однако, мои интересные наблюдения были оттеснены на второй план другим немаловажным обстоятельством, а именно: удваиваемые ставки стали принимать угрожающие размеры. Я сразу не понял шутки Маяковского.
— Может, всё-таки возьмёте фору? — предложил он.
— Нет.
— Учтите, что следующая ставка уже будет двенадцать червонцев с хвостиком. А потом…
Мне грозило полное банкротство. Мои болельщики, ставившие против Маяковского, стали шумно возражать и заставили взять два шара вперёд.
Играли мы до полуночи, до самого закрытия бильярдной. Мне удалось всё отыграть, и Маяковскому пришлось угостить всех нас ужином.
Придя ночью домой, записал:
«Играли на бильярде с М. Был поражен выражением его лица. Необыкновенно!.. Может быть, придётся об этом когда-нибудь вспомнить…»
Жаркое июньское утро. В литературном отделе «Комсомольской правды», в Черкасском переулке, огромное полуовальное окно открыто настежь. Уткин в расстёгнутой рубашке разговаривает по телефону с Кукрыниксами: он заказывает художникам шарж для очередной литературной страницы. Уткин ведёт литературный отдел газеты.
Секретарь отдела, поэт Джек Алтаузен, за письменным столом непрерывно строчит ответные письма на присланные из провинции стихи. В просторной комнате прохладно… Широко распахивается дверь, и входит Маяковский. В комнате сразу становится тесно. Поэт здоровается с присутствующими и деловито лезет в боковой карман.
— Только что написал, — сообщает он всем. — Надоело ссориться…
Уткин заканчивает телефонный разговор, и Владимир Владимирович, положив на стол кепку и палку, становится посреди комнаты. Неяркий свет узкого переулка мягко освещает его угловатое, «бетховенское» лицо. Маяковский вынимает исписанные листы бумаги и объявляет заглавие:
— «Послание пролетарским поэтам».
Это любопытно! За последнее время на литературных вечерах и диспутах споры между поэтами различных литературных группировок становятся всё злей и беспощадней, в бой втянуты газеты и журналы. По-видимому, Маяковский подготовил очередную литературную бомбу против налитпостовцев. Сейчас он навалится на них, вооружённый своим грозным и неотразимым остроумием. Послушаем.
Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговаривать с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Голодный,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение,
давайте
устроим
весёлый обед!
Как это неожиданно и прекрасно! Только могучая, открытая душа могла в самый разгар жесточайших литературных споров и битв выступить с такой необыкновенной, задушевной речью.
Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Приоткрываются двери, и в них появляются любопытные головы молодых сотрудников из других отделов редакции. А Маяковский широким жестом отбрасывает руку в сторону:
Одного боюсь —
за вас и сам, —
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.
Как хорошо, что Маяковский, не боясь этим унизить и скомпрометировать себя, первым запросто пришёл с открытыми объятиями к молодым поэтам!
А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашьи.
— Моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —
Всё, что я сделал,
всё это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!
И когда поэт громово заканчивает чтение последних строк, слушатели благодарными аплодисментами приветствуют его дружеское чистосердечие.