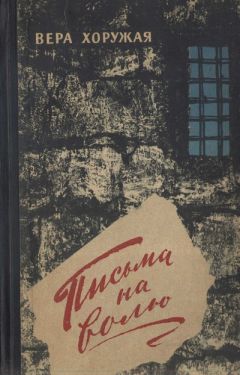Иной раз Митрофан и польку отплясывал в лаптях.
На империалистическую войну его не взяли как единственного сына у родителей, а на гражданскую пошел сам, хотя жил уже, отделившись от отца. Вернулся с войны с двумя ранениями в ноги, застал дома уже подраставшего сынка Михаську. Малыш гладил красную звезду на отцовской буденовке и радостно смеялся. Похоже, он сперва отдал должное звезде, а уж потом стал привыкать и к отцу.
Начал Митрофан обживаться на трех десятинах, которые выделил ему отец. (Вторую половину надела оставил себе.) Вскоре демобилизованного фронтовика выбрали председателем сельсовета. Дали ему печать и папку с пожелклыми бумагами. Что там были за бумаги, Митрофан не очень-то и разбирался, потому читал еле-еле, а писал и того хуже - с трудом свою фамилию выводил. Хотя председательская работа была тогда не из сложных, однако мороки с нею хватало, и времени на нее уходило изрядно. Раз по десять на дню надо было прихлопнуть на каком-нибудь документе печать, что Митрофан проделывал охотно и без особого разбора: лепил печати на протоколах, на разных прошениях, на метрических выписках, которые в то время выдавал еще поп. Тоже раз по десять на дню надо было выслушивать разные приказы, требовавшие отрядить туда-то и туда-то столько-то подвод. Эта работа была Митрофану в тягость: почитай, никто в Добросельцах не хотел исполнять гужевую повинность, хотя и ехать-то было всего ничего. Кляли Митрофана, молили у бога смерти ему и его детям. Кляли, а снимать с председателей не хотели, потому что никому не улыбалось занять его место и выслушивать те же проклятия.
В то время Митрофан строился. И вот только, бывало, залезет на крышу, распустит сноп соломы, а на дворе уже какой-нибудь представитель с предписанием: выделить подводу.
Не сменяли Митрофана несколько лет, а когда все же сменили, то поставили уполномоченным над всеми лесами местного значения. Опять кляли его люди за то, что не давал нарубить лозы на крышу или жердей на забор. Лозы и жердей в лесу от этого едва ли прибавилось, а сам уполномоченный за все время своей новой службы ни разу не съездил в лес и сидел даже без дров.
С началом коллективизации Митрофан первым в своей деревне поднял руку за колхоз. Сегодня проголосовал, а назавтра пошла дымом его хата, которую с грехом пополам осилил за несколько лет. Все лето и осень Митрофан жил в хлеву и только с холодами перебрался в какое-то подобие жилья, слепленное из недогоревших бревен и собранного на лесных делянках вершняка. И все же колхоз в деревне организовался, и Митрофан стал в нем первым председателем. К этому времени он умел уже толково провести сход, выступить с речью, самостоятельно разобраться в директивах, поступающих сверху.
Под осень тридцать шестого года Митрофана с председателей сняли: кто-то написал, будто он был в свое время церковным старостой. Пока бедолага доказывал, что никогда не был никаким старостой, он весь поседел. Выплакала глаза и сгорбилась за это время его жена; маленькая Даша не знала, что и делать, когда видела слезы матери.
Эти воспоминания настолько овладели стариком, что он на какое-то время перестал придерживать вожжой кобылу и едва не очутился в крайнем дворе соседней деревни Червонные Маки. Вольно думается в дороге, тем более когда никуда особо не надо спешить и одна тебе слава, приедешь ты на полчаса раньше или на полчаса позже. Проезжая улицей, Митрофан крепче держит вожжу, громче покрикивает на кобылу. Вот уже скоро сельсовет, а там и молокоприемный пункт рукой подать. Поравнявшись со зданием сельсовета, Митрофан вспомнил: это ж его Даша пошла сюда. Сидит скорее всего в кабинете у председателя и учит этого самого Мокрута, как и что делать. Она это может, она частенько и его, батьку, учит...
Обидно малость Митрофану, что дочь теперь не очень-то его слушает и еще реже соглашается с ним, когда разговор заходит о всяких там острых углах в жизни. В то же время и радостно отцу за детей. Дочка - заведующая фермой, депутат сельсовета, Михась - агроном, работает в городе, в министерстве, Тимох, еще совсем недавно Тимошка, учится в десятом классе. Дети будут жить счастливо.
IV
Лявон Мокрут сидел в старинном дубовом кресле с высокой спинкой, что придавало ему некоторое сходство с судьей. Лет двадцать тому назад это кресло было принесено в сельсовет из поповского дома, пережило войну, несколько председателей на нем сменилось, и вот теперь оно служит Мокруту. Напротив председателя, у стола, опираясь грудью на посошок, стояла ссохшаяся, ветхая бабулька.
- Так все ясно? - похоже, заканчивая разговор, спросил у бабульки Мокрут и постучал пальцем по столешнице. - Если через два дня не внесешь... - Остальное за председателя договорил палец.
Даша сидела на табуретке обочь стола и с грустью поглядывала на председательский палец. Она знала, что означает это постукивание, какие слова заменяет. Должно быть, догадывалась об этом и бабулька: она заплакала и еще ниже сгорбилась над посошком.
- Из каких шишей я внесу? - сквозь слезы пожаловалась бабулька.
- Знать ничего не знаю, - сказал на это Мокрут.
- И было бы за что платить этот налог, - продолжала старая, оборачиваясь к незнакомой ей девушке, - а то ведь за какую-то дупластую дичку.
- Ничего не знаю, - повторил председатель.
- Как это не знаешь? - с возмущением спросила Даша и, поспешно встав, подхватила бабульку под локти, как будто та вот-вот готова была упасть. Садитесь вот сюда. - Она придвинула к старухе другую табуретку. - Садитесь и расскажите все толком, а мы послушаем.
Она укоризненно посмотрела на председателя, а тот поднял было руку, чтобы снова постучать пальцем по столу, но вдруг передумал. Встал, одернул на себе защитный кителек и вяло, как бы только с тем, чтобы размять ноги, отошел к дальнему окну. Там достал из кармана папиросу, дунул в мундштук так, что бабулька непроизвольно вздрогнула, и, закурив, посматривал на Дашу, как на несмышленыша, который лезет не в свое дело.
- Откуда же вы, бабушка? - спросила Даша, подсаживаясь к старухе. Что-то я вас не знаю.
- Да с поселка я, дочушка, с Желтой горы.
- И что, у вас там большой сад?
- Да какой же он большой? - повернувшись всем своим сгорбленным телом к председателю, с горечью проговорила бабулька. - Пришли бы да посмотрели. Три груши стоят. Старые, усохшие наполовину. Еще отец моего мужика покойного, когда молодым был, посадил, принес самосейку из лесу. Не родят уже сколько лет.
- Придем, бабушка, посмотрим. Я сама приду.
- Спасибочки вам, дочушка. - Старуха опять посмотрела на председателя и, заметив, как тот, пыхая дымом, посмеивается, спрятала в свалявшийся платок свой изборожденный морщинами подбородок и закашлялась.