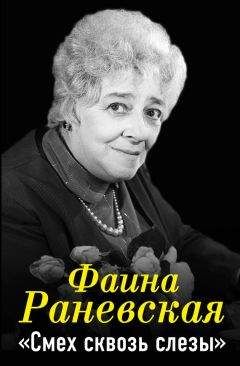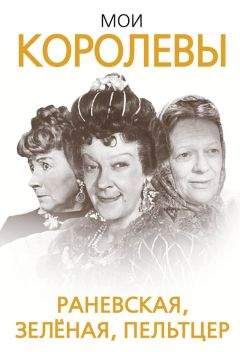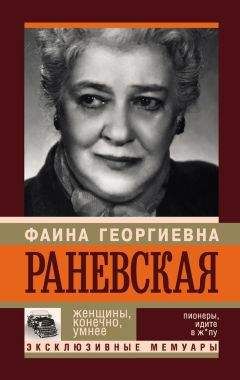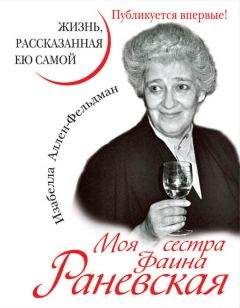– Какая ты у нас Фуфа.
Назвал Эйнштейном, небось не запомнили бы, а это подхватили и разнесли. Хорошо, хоть на улицах Фуфой не зовут…
Я была злой на Завадского, как черт.
– Не желаю и слушать ни о Завадском, ни его театре, даже уборщицей туда не пойду!
Говорят, Завадский в долгу не остался:
– А я ее уборщицей и не взял бы, засрет весь театр окурками, вместо того чтобы убирать.
Расплевались на всю оставшуюся жизнь.
Но это не помешало мне через некоторое время сказать Метельской, что вернусь при условии, что Завадский поставит Достоевского и даст мне роль. Он позволил Ирине Вульф поставить «Дядюшкин сон» и мне сыграть Марию Александровну. Понимал, что Ира не сможет помешать мне играть, как я сама хочу.
Но, если честно, спектакль не очень пошел, получился каким-то тягучим, медленным, временами и вовсе словно останавливался. А я, столько лет мечтавшая именно об этой роли, вдруг осознала, что играть ее не могу.
Нет, конечно, играла и, говорят, неплохо, но внутренне не могла оправдать, а играть роль, не оправдав персонажа хотя бы сволочностью, очень тяжело. В каждом выходе мучительно искала оправдание и не могла найти, это отражалось на всех. Говорили, что спектакль не удался, это чувствовал и сам Завадский, хотя Ирине ничего не говорил.
Наконец Завадский набрался решимости и поговорил со мной. Но, мерзавец, как он это сделал! Словно вскользь заметил:
– Фаина, ты играешь плохо. Спектакль не идет.
Ну не сволочь?! Я всегда говорила: если спектакль удачен – Завадский гений, если провалился – актеры и публика дураки!
Пусть себе переворачивается там в гробу, пока я его костерю, чтобы бока не залежал. Вот доберусь к ним, еще поговорим. Вечность дело долгое, все ему выскажу.
Однажды меня спросили, где, по моему мнению, лучше – в раю или в аду.
– Конечно, в раю климат и бытовые условия получше, но, боюсь, в аду компания веселей. Там свои.
Я непременно попаду туда, где Завадский, по ходатайству классиков, над которыми мы с ним успешно издевались. Боже, как будет стыдно перед Антоном Павловичем! Одно спасет – он в раю. Но все равно стыдно.
Три примы в одном театре – это не просто много, это ужасно. Ужасно для всех – театра, режиссеров и самих актрис. У Завадского нас оказалось три, претендующих на одинаковые роли, – Вера Марецкая, Любовь Орлова и я.
Прима не значит красавица, хотя и Вера Марецкая, и Любовь Орлова действительно красавицы. Каждая из них достойна отдельного разговора, обе талантливы и мужественны, у меня не поворачивается язык сказать «были»… Они обе моложе меня, Вера на десять лет, Люба на шесть, но я живу, а их уже нет… Я такая старая, и это так ужасно – пережить всех. Даже Завадского нет, а я есть…
Завадский юлил между нами тремя, как только мог, а мог он очень ловко. Но без столкновений все равно не обходилось.
А с «Дядюшкиным сном» разобрались быстро и в мою пользу, хотя выглядело это совсем иначе.
Театр ехал на гастроли в Париж. Туда не повезешь патриотичные пьесы о выдающихся производственниках, не поймут. А Вере Марецкой играть просто нечего, ни одной роли, для парижан хоть сколько-нибудь понятной.
Если я Завадского костерила при всех или говорила так, что знала вся труппа, а он сам даже интересовался: «Что там еще Раневская обо мне придумала?», то он разговаривал со мной один на один. Только раз Завадский прилюдно заорал: «Вон из театра!» И получил в ответ: «Вон из искусства!»
Нет, бывало еще. По поводу «Шторма» он орал на репетиции, что я своими выходками сожрала весь его режиссерский замысел!
– То-то у меня ощущение, будто г…на наелась.
С «Дядюшкиным сном» Завадский поступил предельно просто:
– Фаина, мы едем в Париж, а Вере нечего играть. Она прима.
– Пусть твоя прима забирает Марию Александровну. Я, в отличие от твоей примы, в Париже была, и не раз, и без присмотра органов. Пусть едет Марецкая.
– А как же вы?
– Вы же сами сказали, что роль не получилась. Я на нее не претендую.
У Веры тоже не получилось, спектакль что со мной, что с ней не был шедевром, Достоевского играть не умели.
Но сидеть дома, когда труппа едет в Париж, – полбеды, беда, что я осталась без ролей вообще, Мария Александровна была единственной в этом театре.
Мне почти семьдесят, ролей нет, в театр ходить не за чем, даже зарплату приносят на дом. Большего кошмара для меня не существует. Понимаете, вот когда я не смогу запоминать слова ролей, когда не смогу передвигаться по сцене, не смогу жить ролью чисто по физическим показателям, тогда меня можно списывать на пенсию.
Но я же могла! Могла и хотела!
Нет ничего страшней вот этой ненужности, когда есть опыт, есть понимание. Есть силы, и нет в тебе надобности. Для актера самое страшное не провал роли, ее можно выправить, не провал спектакля, можно поставить другой. Хуже, когда ролей нет, спектаклей нет, заняться нечем.
Не все это понимают. Даже вдова Осипа Наумовича Абдулова Елизавета Моисеевна удивлялась:
– Фаиночка, к чему вам все треволненья? Пенсию дадут хорошую, наверняка персональную, будете получать больше, чем сейчас в театре, и жить припеваючи.
Как можно жить припеваючи без дела?!
Это не пение, это вой собачий на Луну получится.
Режиссеры крайне редко предлагали мне что-то сами, чаще я искала спектакли, роли для себя, пробивала их, из десяти предложенных удавалось изредка пробить одну. Господи, до чего же расточительны наши режиссеры! Если они в аду, то не стоит им доверять даже дрова в костры подкладывать, пусть там маются без дела. Хотя некоторым понравится вечный отдых.
Я вечно отдыхать не умею, я свой ад отбыла на Земле. Интересно, чем меня в аду накажут? Безделье я уже проходила…
Какие-то у меня дурацкие записи получаются. Не умею писать толково и складно. Пишу, пишу об одном, перескакиваю на другое. А может, так и надо, написать все, что придет в голову, а потом половину выбросить, а вторую… порвать?
Буду писать, пусть и сумбурно, потом разберемся. Найду умника, который все это перевыразит литературно, если, конечно, сумеет разобрать мой почерк. У меня почерк безграмотной старухи. А я и безграмотная, если считать грамотностью диплом.
Меня спасает только то, что много читала и много лет произносила чужие умные слова (и не очень умные), а еще больше то, что дружила (какой ужас, все в прошлом!) с интеллигентными людьми. Не вшивыми интеллигентами, для которых таковая заключается в умении носить портфель или пенсне, а настоящими, такими как Павла Леонтьевна Вульф.
Снова меня не туда заносит. Не беда, вычеркнем, порвем, а то и вовсе отправим на растопку. Интересно, что такого написал Гоголь в продолжении «Мервых душ», что сжег рукопись? Опасно или плохо. Это тоже проблема – написать хуже, чем писал раньше, сыграть хуже, чем играл, не оправдать надежды.