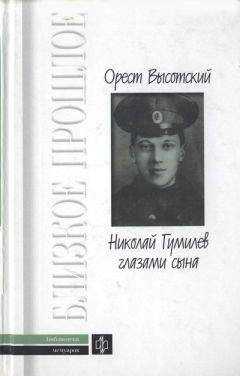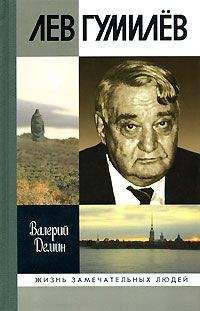Гумилева поместили на третьем этаже в маленькой комнате, обращенной в сторону Святой горы, с покатым деревянным потолком на шести балках. Окно было на высоте двух с половиной аршин от полу, в него виднелись только яркое небо и синяя цепь гор. В этой комнате-келье стояли деревянная кровать и маленький белый столик.
За этим столиком Гумилев писал поэму, принесшую ему широкую известность. Ему наконец удалось выразить свое стремление к неведомому, к сказочно-прекрасным странам, куда могут проникнуть только отважные, сильные люди:
…Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.
Разве трусам даны эти руки.
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат.
Это были «Капитаны», посвященные открывателям новых земель.
И кажется, в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах живут великаны
И светят в прозрачной воде жемчуга.
И карлики с птицами спорят за гнезда,
И нежен у девушек профиль лица…
Как будто не все пересчитаны звезды,
Как будто наш мир не открыт до конца!
Лиля вспоминает, что стихи эти «посвящались мне. Вместе каждую строчку обдумывали мы». Этого свидетельства никто не опровергнет. Но и не подтвердит.
Внешне на даче все было хорошо и спокойно. Но приближалось крушение коктебельской идиллии. Волошин, встречаясь за завтраком с Гумилевым, холодно кивал в ответ на приветствие, а Гумилев, не стесняясь, резко отзывался о стихах хозяина дачи. Дмитриева металась между ними, пытаясь предотвратить прямое столкновение.
И однажды у нее произошло с Волошиным объяснение.
Он сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву, я буду тебя презирать». В тот же день Лиля попросила Гумилева уехать, ничего ему не объяснив. Они расстались до осени.
Утром он был в Одессе, где на даче Шмидта летом отдыхали Горенко. Встреча состоялась днем. Аня сидела в саду, по самые глаза замотанная шарфом: у нее была свинка. Долго отказывалась показать лицо. Гумилев нашел, что она напоминает Екатерину Великую.
Он снова просил стать его женой, и на этот раз тоже не получил согласия. Но все-таки это не был прежний категорический отказ.
Год занятий юридическими науками убедил Гумилева, что попал он не туда. В августе Николай Степанович подал прошение ректору о переводе на историко-филологический факультет.
Здесь преподавали ученые с мировым именем. Читал лекции лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ, крупнейший представитель общего и сравнительно-исторического языкознания; вел курс логики выдающийся философ А. И. Введенский. Общий курс античности вел профессор Ф. Ф. Зелинский. Подробно изучалась русская история, был семинар по литературе Петровской эпохи, а общий курс русской литературы отличался фундаментальностью.
Ранней осенью в особняке на Мойке открылась редакция нового журнала «Аполлон». Хотя Гумилев не состоял ее членом, в журнале весь отбор стихов шел через него; прозой занимался М. Кузмин, театральным делом — С. Ауслендер, а художественным — Георгий Лукомский. Секретарем журнала был приглашен Е. А. Зноско-Боровский, драматург, театровед и автор книг по истории и теории шахмат.
Поэтическая академия в «башне» Иванова летом прекратила свое существование, и Гумилев решил ее возобновить, теперь уже в стенах «Аполлона». В сентябре его стараниями был собран кружок молодых, провозгласивший себя Обществом ревнителей художественного слова при журнале «Аполлон». Лекции в нем согласился читать Анненский. Хорошо знавший градоначальника Маковский пошел к нему с Анненским и Ивановым, и разрешение на проведение собраний было получено. В руководящий кабинет Общества вошли, кроме них трех, Н. Гумилев, А. Блок и М. Кузмин. Несколько позже к ним присоединился профессор Браун.
Первое занятие Общества открылось чаепитием, и потом это вошло в традицию. Гумилев присутствовал на всех занятиях, которые проводил Анненский. Иннокентий Федорович не повторял того, что говорил на занятиях Поэтической академии Вяч. Иванов. У него были свои темы, например, Лермонтов, разбор стихотворения «Выхожу один я на дорогу»: заслуживали внимания отбор гласных, преобладание «о», «у», отсутствие «а» на ударных местах.
В ту осень на одном из собраний появился Андрей Белый, который привез с собой из Москвы рукопись исследования по метрике стиха (вошедшую потом в его книгу «Символизм»). Профессор Зелинский сделал интересный доклад о возможности передать русским стихом античные размеры. С первых чисел октября начались диспуты, в которых оппонентами выступали И. Анненский и Вяч. Иванов. Чаще других в спорах участвовали Н. Гумилев и М. Волошин.
24 октября в редакции «Аполлона» был праздник — вышел первый номер журнала. Гумилев, пришедший после занятий в редакцию, увидел целую выставку рисунков и рукописей. Стопками лежали свежие, пахнувшие типографской краской номера «Аполлона». Поздравляли друг друга. Маковский чувствовал себя именинником и предложил отметить это событие в ресторане.
Немецкий поэт и переводчик Иоганнес фон Гюнтер, постоянный сотрудник журнала, так описал это событие: «…открытие „Аполлона“ было отпраздновано в знаменитом петербургском ресторане Кюба. Первую речь об „Аполлоне“ и его верховном жреце Маковском произнес Анненский, за ним выступили два известных профессора, четвертым говорил наш милый Гумилев от имени молодых поэтов. Но так как перед этим мы опрокинули больше рюмок, чем следует, его речь получилась немного бессвязной. После него я должен был приветствовать „Аполлон“ от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержащую все, что надо было сказать. Я без устали повторял ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил, как подошел к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним — затем занавес опускается.
Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.
Потом, в шикарном ресторане Донон, мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым глубоко погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей „Риге“, где утром Гумилев и я пили черный кофе и зельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза».