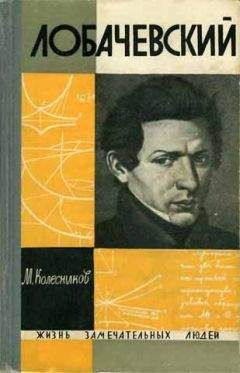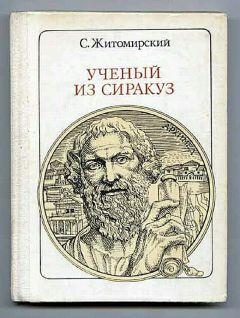Ни Лобачевский, ни Симонов не знали, что имена их были названы Магницким во время позорного судилища. И теперь Михаил Леонтьевич побаивался, что окольными путями они могут об этом узнать. Вряд ли пылкий, дерзкий Лобачевский оставит дело без последствий. Магницкого могут публично уличить во лжи, поднимется шум, дойдет до царя… Если доносы Никольского даже пристрастны и лживы, то все равно из них можно понять, что Лобачевский личность неуравновешенная, бесстрашная, самолюбивая. Или как пишет о нем ректор: «Лобачевский есть гордый, в себя влюбленный ум». Такой «гордый ум» может натворить дел… Напишет Салтыкову, Карташевскому. А этим только дай улику…
Нужно и Лобачевского и Симонова немедленно утвердить в званиях ординарных профессоров, представить их к ордену св. Владимира 4-й степени!
Давно ли Михаил Леонтьевич метал громы и молнии в адрес Лобачевского! Но не проходит и двух месяцев, как Никольский получает новое письмо от попечителя. От этого письма у Григория Борисовича глаза лезут на лоб. Он в полном замешательстве. «Вам надобно остеречься замечаемого мною предубеждения против Сим. и Лоб. Дух ненависти нередко прикрывается плащом осторожностей… Зная, как вы ожидаете, милостивый государь мой Григорий Борисович, производств наших, спешу вас уведомить, что пр. Лобачевский, Симонов и Пальмин произведены в ординарные!»
Никольский чувствует, как почва уходит из-под ног. Сразу же начинает юродствовать: «Да сохранит меня господь от духа ненависти к г-м Лобачевскому и Симонову. Признавая себя недостойным грешником, отнюдь не смею уничтожать кого бы то ни было, твердо помня, что первый в рай вошел благоразумный разбойник (намек на Лобачевского!), первая Магдалина, из которой изгнал господь семь бесов, обрадована была воскресением Христовым… Однако не могу умолчать перед Вами, что теперь распределение жалованья университетским чиновником несоразмерно. Так, например, г-да Симонов и Лобачевский, люди холостые, получать будут каждый по 2000 р. за одну кафедру и по 1200 р. за другую прибавочную, по 500 р. на квартиру».
Но попечитель отступать не намерен. Нет денег? В таком случае следует немедленно уволить инспектора студентов Барсова, который пытался оклеветать молодых профессоров. Средства всегда можно изыскать. Например, можно сместить с должности ректора, уничтожить должность директора…
Все в растерянности. Лишь Николай Иванович Лобачевский непреклонен. Его подачками не купишь. Он твердо решил уйти из университета. «Хотя и удостоили меня звания ординарного профессора и дали мне жалованье, какое едва ли в другом месте получу, но ежели брат мой не будет произведен в профессора, то я принужден буду оставить университет: потому что у меня один только брат, которого я люблю как брата и друга».
— Зря мечешь бисер! — сказал Алексей Николаю Ивановичу. — Никаких званий мне не нужно. Кафедру я уже сдал и переезжаю к Гавриле Осокину. Ученого из меня все равно не получится. А тебе остаться надобно. Не знаю, как у меня пойдет дело… Мать без помощи оставлять нельзя.
Николай Иванович — глава семьи. Он обязан заботиться не только о матери, но и об Алексее, человеке взрослом, самостоятельном. Всегда на руках и ногах цепи… Рабом его делают обстоятельства жизни, многочисленные обязанности перед людьми, перед близкими, перед тем делом, которому он служит. Весь уклад бытия царской России превращает человека в раба. Заботы, как огромные тяжкие камни, с каждым годом все ощутительнее ложатся на плечи.
При тусклом мерцании свечи Николай Иванович записывает в памятную тетрадь: «Срочное время поручено человеку хранить огонь жизни; хранить с тем, чтобы он передал его другим… Но, увы, напрасно жизненная сила собирает питательные соки; их сожигает огонь страстей, снедают заботы и губит невежество…»
Лобачевский считал, что у каждой науки должна быть своя философия, своя логика мышления, некая исходная точка зрения. Такой исходной точкой для самого Николая Ивановича служил материалистический сенсуализм — учение, признающее единственным источником познания ощущения. Ощущения — суть отражение объективной реальности. Сенсуальный — значит чувственный. «Врожденным — не должно верить…» Нет врожденных идей, понятий. Единственно из чувственного опыта, накрепко связывающего нас с материальной природой, мы черпаем знания. Ломоносов, Радищев, Лаплас, Мабли, Кондильяк, Локк — все они придерживались материалистического эмпиризма. А Лобачевский считал их своими учителями.
Он по-прежнему много размышлял о пространстве и времени. Иногда он, словно очнувшись от глубокого сна, с удивлением оглядывался вокруг. Теперь он все чаще и чаще стал впадать в странное состояние некоего забытья, отрешенности от всего. Современники рассказывают об этом так: «Увлеченный каким-нибудь математическим вопросом, Николай Иванович забывал все окружающее, и в этом состоянии если, ходя по комнате, встречал стену, то останавливался перед нею и целые часы мог простоять неподвижно, опершись о нее лбом. Даже в зале Дворянского собрания он стоял, опираясь на колонну, в глубокой задумчивости, и казалось, что он не видит и не слышит, что творится кругом».
Да, он не видел и не слышал… Он грезил наяву. Мыслил. Грезы уводили его так далеко, что, очнувшись, он долго не мог прийти в себя. Не мог поверить, что снова очутился в своем веке среди привычных вещей и привычных лиц. Он полемизировал с Эвклидом, он потрясал основы, он устремлялся в безграничные просторы вселенной, он дотрагивался рукой до иных солнц, он залетал в такие сферы, где эвклидова геометрия теряет власть над пространством. А ему кричали со всех сторон: «Возлюби боженьку, вернись в лоно церкви!.. Смирись, склонись, будь блаженненьким. Благоразумный разбойник первым вошел в рай. Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви через ходатая бога и человека».
Где он, ваш рай? Проникнув в самые отдаленные сферы, я не нашел его. Ничего, кроме движения физических тел… Мерцает свеча. Гусиное перо скользит по синему листку бумаги. «В природе мы познаем собственно только движение, без которого чувственные впечатления невозможны. Итак, все прочие понятия, например Геометрические, произведены нашим умом искусственно, будучи взяты в свойствах движения; а потому пространство, само собой, отдельно, для нас не существует. После чего в нашем уме не может быть никакого противоречия, когда мы допускаем, что некоторые силы в природе следуют одной, другие своей особой Геометрии».
Он прежде всего философ, а потом — все остальное. Из всех гениев во всей истории человечества еще никто не мыслил так. Да, в природе в разных ее явлениях могут проявляться различные геометрии.