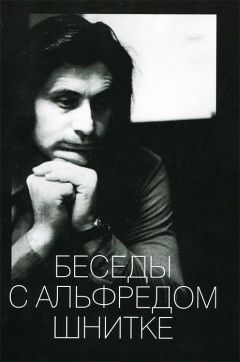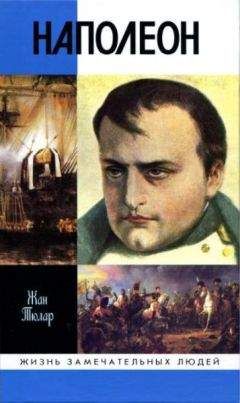А.Ш. Со Щедриным отношения были разные. Но все же скорее - положительные. Я думаю, что в самом Щедрине происходила борьба между очень сильным его личным своеволием и большим самолюбием, умением делать карьеру и желанием делать ее. Щедрин долгое время был единственным из секретарей Союза, который делал успешную и официальную музыкальную карьеру, не уступив своего музыкального языка. Он может нравиться или не нравиться, но он - состоялся.
То, что он поддержал меня с Первой симфонией,- действительно было
92
очень важно. В конце 1973 года возникла возможность исполнения симфонии Геннадием Рождественским. Причем Рождественский сначала хотел ее сыграть с Большим симфоническим оркестром радио, которым он еще тогда руководил. Позднее Рождественский был вынужден уйти с радио и решил сыграть мою симфонию в Горьком, с местным оркестром. В Горьком филармоническое начальство все же побаивалось исполнения этого сочинения и сказало, что все будет в порядке, если мы привезем письменное ходатайство Хренникова или Щедрина. Я решил пойти к Щедрину с партитурой. Он посмотрел ее, полистал и в итоге подписал письмо с ходатайством сыграть симфонию в Горьком.
- Прямо сразу же?
А.Ш. Я этого не помню, но у меня впечатление, что, смотря партитуру, он уже имел в голове готовый вариант решения.
- Были ли до этого какие-то личные отношения с Щедриным? Ведь у вас не такая большая разница в возрасте.
А.Ш. Были попытки свести нас еще в консерватории. Но Щедрин вел себя холодно. Когда же я пришел к нему с Первой симфонией, он похвалил партитуру.
Его письмо решило судьбу исполнения в Горьком и во многом все дальнейшее. Реакция на исполнение была адская. Бог знает что. Но все же это состоялось - благодаря одной его подписи.
Из статьи В. Блиновой Коэффициент полезного действия... Был ли он?//
Горьковский рабочий. - 1974. -19 февраля
...Трагические произведения тем и сильны были всегда, что непрерывно взывали к протесту против любого зла. Невольно всплыли в памяти жуткие капричос Гойи, страшная Герника Пикассо, невеселые откровения Достоевского, злая сатира Салтыкова-Щедрина. Но во всех перечисленных примерах, кроме констатации мрачных сторон действительности, есть совершенно определенная позиция художника, позиция активного осуждения зла. В музыке чаще удается выразить гуманную идею посредством противопоставления образов света, добра, жизнеутверждения всему противоположному.
В симфонии Шнитке этого не чувствуется. Тогда во имя чего все “новаторство”, если оно ни уму, ни сердцу?!
Потом я ходил к нему еще раз, когда речь шла о записи Реквиема. Я играл ему Реквием на рояле, и он ему не понравился. Он сказал, что ему не нравятся точные многократные повторения, квадратность и метричность этой музыки. И письма не подписал.
93
Еще я приходил к нему показывать Первый concerto grosso, перед каким-то пленумом, который проходил в Ленинграде. К сочинению он отнесся хорошо, очень его похвалил. Так что я никак не могу на него пожаловаться.
- Ты в свое время хорошо писал о его Третьем фортепианном концерте.
А.Ш. Да, и мне нравилось это сочинение. Но еще больше - его Музыкальное приношение. Я считаю, что оно до сих пор не оценено и не понято. Как и многие, первые минут тридцать я был в некотором недоумении, как-то не понимал. А потом все стало для меня внесловесно понятно.
Я не был в таком восторге от Анны Карениной. К сожалению, все, что касается лирической стороны, мне всегда кажется у него несколько холодноватым и вследствие этого заостренным. А вот сильное впечатление у меня было от оперы Мертвые души в Большом театре. Мне понравилась холодноватость, игрушечная красивость всего этого. Мне понравилось то, что он сделал с хором. Как целое - не знаю: то, что есть у Гоголя, вероятно, не может быть человеческими силами решено. Если это не получилось у Гоголя, может не получиться и у Щедрина.
- Как тебе понравилась его Чайка?
А.Ш. Чайка мне понравилась меньше - и да и нет. Лирическое там я ощутил как искусственное. А все, что касается остроты и точности понимания, - это у него есть.
- Ты считаешь, что Щедрин занимает место, соответствующее своему дару?
А.Ш. Я считаю, что он сделал большую ошибку, не уклонившись в свое время от всей этой официальной сферы. Причем я понимаю, что он не уклонился, потому что xoтел придавить официальным способом всех демагогов, болтунов и бездарностей. Я все это понимаю! Но тем не менее за все это надо платить, и платить частью своего собственного существа, -частью, которая невосполнима.
- Есть композиторы среди твоих сверстников, которых ты ценишь больше?
А.Ш. Я очень люблю Валентина Сильвестрова, очень люблю некоторые сочинения Софии Губайдулиной, многое, хотя не все,- у Бориса Тищенко, многое - у Гии Канчели, у Авета Тертевяна, у Тиграна Мансуряна. Я бы не ставил Щедрина выше их, не переводил бы его в отдельный разряд, но числил бы вместе с ними, в их ряду. Это тот круг, где мне интересно. Я бы и себя, и его в этот круг зачислил. По сути того, что он делает, он для меня в этом кругу. А по-человечески у меня с ним контактов мало.
- Ты называешь Сильвестрова и Канчели. Но они очень разные. Сильвестров - нечто чисто музыкальное, идущее, быть может, от Веберна. Канчели. наоборот, всегда чуть-чуть что-то внемузыкальное... Для некоторых монументальная монолитность его музыки оборачивается однообразием.
94
123
Из аннотации к пластинке: Г. Канчели. Третья и Шестая симфонии.
-Мелодия, 1982. С 10 20843 000
В симфониях Канчели за сравнительно короткое время (двадцать - тридцать минут медленной музыки) мы успеваем прожить целую жизнь или целую историю. Но мы не ощущаем толчков времени, мы, словно на самолете, не чувствуя скорости, парим над музыкальным пространством, то есть временем. В Третьей симфонии, как и во всех остальных своих симфониях, автор избегает формальных и образных стереотипов этого жанра - здесь нет ни сонатной формы, ни многочастности, ни четкого драматургического развития. Ее своеобразная “антидраматургия” основана на контрастах образов, которые сами по себе почти не подвергаются развитию, но вступают все время в новые взаимоотношения. Это основанный на интонациях сванского погребального пения рефрен голоса, пронизывающий все сочинение от начала до конца как олицетворение вечного духовного начала. Это мужественные скандированные “хоровые” возгласы медных духовых. Это настороженная пульсация струнных (звук извлекается нажатием пальцев левой руки). Это отдаленные удары колокола. Это тихие, бесплотные звучания скрипки, парящие над неподвижным аккордовым рельефом. Это внезапные острые изломы ритма, молниеносные прорывы тутти, бесконечно тянущиеся долгие отзвуки. Все это представлено лишь краткими мотивами или просто тембровыми пятнами. Но калейдоскопичности нет - редкие вспышки родственных мотивов оставляют в сознании долгие слуховые следы, между ними протягиваются интонационные связи, они воспринимаются как поток пунктирных линий, образующих изменчивую полифонию тембровых пластов. Именно монтажно-кинематографическая незавершенность, бескадровость каждого фрагмента и создает многомерность пространства. Пронизывающий Шестую симфонию насквозь, словно образ неизменной природы, тембровый рефрен двух солирующих альтов связывает целую цепь контрастных эпизодов: вот трепетное, прерывистое дыхание жизни, вот сосредоточенное размышление, вот неожиданная судорога, вот трагическое похоронное шествие, вот удары неведомой злой силы, вот лирическое откровение, вот исступленное насилие, вот гордый стоицизм смирения - все это проходит перед нами последовательно (а иногда и одновременно в многомерном контрапункте), и мы не знаем, когда и где случились эти события, между которыми века, и которые даны нам не в исчерпывающей полноте, а в пунктирной незавершенности (как, впрочем, и происходит все в жизни). И мы не можем не верить в реальность этого мира, открывшегося нам в своей прекрасной “неоформленности”, и нам хочется еще раз побывать в нем и понять то, что мы не поняли с первого раза, дослушать то, чего мы не расслышали...