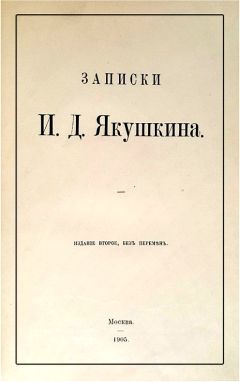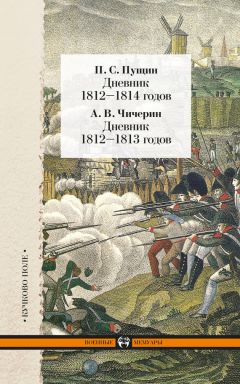Сильные морозы подавали надежду, что Байкал скоро станет, и полагали отправить нас за море по льду; но потом наступила довольно мягкая погода, и потому Арбузов, Тютчев и я, мы были отправлены кругоморской дорогой, в сопровождении казачьего офицера и трех казаков. В тот же день мы прибыли в Култук, небольшое селение на берегу Байкала, где мы и ночевали. Жители этого селения, по большей части, занимаются рыбной ловлей и звериной охотой. Тут я в первый раз ел жареную кабаргу. Положение Култука прелестно; вид Байкала, с окаймляющими его горами, истинно прекрасен, и мне думалось тогда, что быть поселенным и тут жить, в этом отдаленном уголке, с своим семейством было бы верх счастья. На другой день с нас снял офицер оковы, и мы отправились в дальний путь верхами. Офицер остался запастись водкой, казаки также от нас отстали, и мы, в продолжение некоторого времени, были как-будто на свободе. Погода была не холодная. После долгой неволи иметь под собой лошадь, которою правишь по своему произволу, и не иметь около себя соглядатаев, возбуждает какое-то особенно приятное чувство. По мере того, как мы подымались на гору, вид Байкала становился шире и удлинялся в даль. Перед сумерками мы приехали на первую станцию от Култука, где бы, вероятно, и ночевали, если бы тут наш полупьяный офицер не заушил дворового человека Бурнашова, бывшего начальника Нерчинских заводов. После этого происшествия офицер наш велел седлать лошадей, и мы отправились далее. Уже ночью мы переехали гольцы Хамар-Дабана и поздно, усталые, добрались до станции. Арбузова внесли в комнату на руках; его так разломала верховая езда, что он не мог держаться на ногах. На другой день мы пустились в путь не очень рано. Мы ехали верхом всего около 200 верст, и на всем этом протяжении не было никаких селений. Лошади, для которых надо было привозить корм очень издалека, и провожатые буряты оставались на станциях только на то время, пока не было сообщения по льду через Байкал. Дорога через Хамар-Дабан и по всей этой горной безлюдной стране была замечательна своим устройством. Везде, где она проходила мимо обрывов, были поставлены надолбни; через все потоки и речки были очень исправно построены мосты, даже некоторые крутизны были срыты: это был один из памятников самопроизвольного и вместе с тем иногда разумного управления Трескина. После верховой езды на нас опять надели цепи, и мы ехали на санях, местами почти совсем без снегу. В Ключах, староверческом селении, нас приняли очень радушно; пока мы пили чай и потом обедали, много мужчин и женщин приходили поглядеть на нас и потолковать о томи, что делалось тогда на Руси. В тот же день мы ночевали в Тарбагатае, также староверческом селении. Я прежде говорил офицеру, что мне хотелось бы увидаться с Александром Николаевичем Муравьевым, когда мы будем проезжать через Верхнеудинск. Ночью в Тарбагатае офицер разбудил меня, снял с меня железа и вывел из комнаты тайком; потом сказал, что я увижусь с Муравьевым, и повел меня к Заиграеву, про которого упоминают многие из путешественников, описывавших Забайкальский край. Заиграев был неглупый и очень зажиточный крестьянин. У него в гостиной была мебель красного дерева, в углу стояли английские столовые часы, и на столе, когда мы вошли, лежали московские газеты; но вместо Муравьева я нашел тут княжну Вар. Мих. Шаховскую. Она приехала как будто для того, чтобы приискать кормилицу для сестры своей, и надеялась встретить тут Муханова, с которым она была в родстве и очень хорошо знакома. Я прежде ее почти не знал, но тут мы сошлись с ней, как-будто век были знакомы. Она мне рассказала многое, чего я не знал, о наших. Александр Муравьев, приговоренный верховным уголовным судом к каторжной работе на 12 лет, был не только освобожден от работы, но сохранил звание, чин и проч. Он был отправлен на жительство в Якутск; жена его, с двумя детьми и двумя своими сестрами, за ним последовала, и под каким-то предлогом они все вместе оставались некоторое время в Иркутске; потом Муравьеву вышло позволение, вместо Якутска, жить в Верхнеудинске, откуда он подал просьбу о дозволении ему вступить в службу и был впоследствии определен полицеймейстером в Иркутск. Вскоре после окончания нашего дела Артамон Муравьев, Давыдов, Оболенский и Якубович были отправлены в Сибирь; вслед за ними были также отправлены; Трубецкой, Волконский и два Борисовых. За день до отъезда у Трубецкого тарелками шла кровь горлом, что однако не остановило его отправления. По прибытии в Иркутск они были размещены по ближайшим заводам. К Трубецкому приехала жена, и он, устроившись кой-как в Николаевском винокуренном заводе, надеялся, что их тут оставят пока пожить вместе; но они недолго оставались в таком положении. Во время коронации Лавинский прислал нарочного с приказанием, вследствие которого всех восьмерых наших потребовали в Иркутск, откуда тотчас же отправили их за Байкал, в Нерчинские рудники. Княгиню Трубецкую старались всячески задержать в Иркутске и уговаривали даже возвратиться в Россию; но она, своей решительностью, преодолев все препятствия, последовала за мужем в Благодатский рудник, где она с ним видалась, но они не жили уже вместе. Бурнашов, начальник Нерчинских заводов, обращался довольно грубо с нашими, и сожалел, что в полученном предписании ему приказано было беречь здоровье государственных преступников; их посылали ежедневно в шахты добывать руду вместе с другими каторжниками. Горничная кн. Шаховской сварила кофе, и моему офицеру подлили в него рому; этот напиток подействовал так благодетельно на казака, что он несколько раз безуспешно пытался встать со стула, что и доставило мне возможность беседовать целую ночь с кн. Шаховской.
Проезжая через Верхнеудинск, я напрасно ожидал, что Александр Муравьев выйдет к нам навстречу. Из Верхнеудинска мы ехали и на санях, и на колесах и прибыли, наконец, в Читу 24-го декабря.
По прибытии в Читу нас привезли в малый каземат: так называли небольшой домик, обнесенный высоким частоколом, служивший прежде острогом для пересылаемых в Нерчинский завод, а потом помещавший в себе государственных преступников. Нас ввели в особую комнату, принесли наши вещи и разложили их на пороге; караульный офицер, составив опись нашим вещам, оставил нам платье и белье; книги взял для доставления коменданту, который должен был их рассмотреть; часы же, столовые приборы, даже щипцы, были у нас отобраны, как предметы, которыми по тюремному положению мы не могли пользоваться. Когда ушел офицер, дверь в нашу комнату осталась свободной, и жильцы малого каземата посетили нас; тут были Юшневский, Николай и Михайло Бестужевы, Горбачевский, Артамон Муравьев и другие. — В сумерки плац-адъютант Куломзин тайно привел ко мне Фонвизина. После продолжительной разлуки мы нежно обнялись с ним. Он похудел; раненый в ногу во время кампании 13-го года, оковы по временам очень его беспокоили. Он часто получал письма от жены своей, которая собиралась скоро к нему приехать; расстался он с ней еще в начале 1827 г. В это время началось отправление из Петропавловской крепости в Читу. До самого отъезда содержавшиеся в Петропавловской крепости имели дозволение ежедневно видеться с близкими своими родственниками. Вслед за отправленными после казни в каторжную работу были также отправлены все разжалованные в солдаты и присужденные на поселение. Положение последних по назначению мест для их жительств было вообще незавидно, а некоторых даже ужасно дурно. Все они были поселены в самых северных странах Сибири: Николай Бобрищев-Пушкин и Шаховской были отправлены в Енисейск, где они оба сошли с ума. Чижов был поселен в Гижиге, а Назимов в Среднеколымске, состоявшем из нескольких казачьих юрт. Казаки, получив предписание держать Назимова под строгим надзором и вместе с тем беречь его здоровье, не знали, что с ним делать; они заперли его в одну из своих юрт, отправив гонца в Якутск с донесением, что Назимов болен, и что они не знают, чем его кормить; сами они зимой питались вяленой рыбой. Через некоторое время вышло разрешение перевезти Назимова в одно небольшое селение на Лене, где ему было уже несколько лучше; но в Среднеколымске он нажил жестокую ломоту в руках и ногах, от которой впоследствии едва мог избавиться. Чижов также был переведен из Гижиги в другое место. Все прочие государственные преступники восьмого разряда были также поселены в местах, весьма неудобных для жизни.