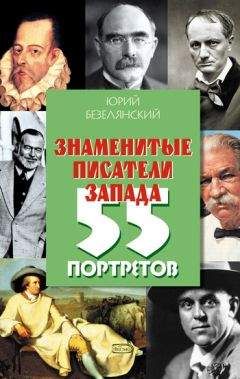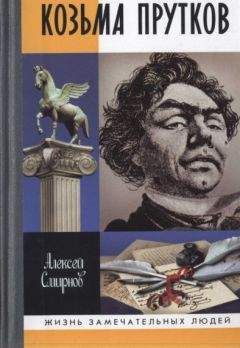— Тут я с вами не согласен, — отвечал Гёте. — Байронова отвага, дерзость и грандиозность — разве это не толчок к развитию? Не следует думать, что развитию и совершенствованию способствует только безупречно-чистое и высоконравственное. Все великое формирует человека.
И. П. Эккерман. «Разговоры с Гёте»
С каждым поэтом или писателем мы знакомимся — а затем возвращаемся к ним — в определенном возрасте: с одним в юные годы, с другим — в зрелые или даже поздние. Отсюда и разное восприятие одних и тех же текстов. В молодости мы выискиваем рассуждения о любви, в старости нас привлекают совсем иные мысли — о страдании, о смерти, о вечности.
К Байрону меня приобщила Марина Георгиевна Маркарьянц, учительница английского языка, которая, будучи любительницей литературы, приносила в школу своим любимым ученикам редкие или запретные тогда книги, например Анну Ахматову. Марина Георгиевна устраивала литературные семинары. На одном из них по ее совету я выступил с докладом о творчестве Байрона. Шел 1949 год, и надо было иметь определенную смелость говорить не о Фадееве или Шолохове, а именно о лорде Байроне. Это был мой первый литературоведческий опыт, о качестве которого уже ничего не скажешь: не сохранился. Но, готовясь к выступлению, я начитался Байроном всласть. Он мне нравился. Нравится и теперь.
И как справедливо писал М. Дубинский в книге «Женщины в жизни великих и замечательных людей» (она вышла в 1900 году в Санкт-Петербурге и переиздана уже в наши дни):
«Нет, пожалуй, ни одного великого поэта, который был бы так родственен русскому духу, как Байрон. Это почти русский поэт. Он писал пером Пушкина, водил рукой Лермонтова. Он царил в наших гостиных двадцатых и тридцатых годов, разочарованно зевал под маской Онегина, беспокойно блуждал по Руси под плащом Печорина и с негодованием метал громы устами Чацкого на балу у Фамусова. Он и теперь еще продолжает носиться со своей вечной тоскою по захолустным уголкам нашего обширного отечества, ничего не забыв и ничему не научившись. Даже его отрицательное отношение к своей родине — в какой-то степени наше отношение, потому что мы, как и он, не любим своекорыстной Англии, потому что, прикрывая громкими словами свою ненасытную алчность, она и в нас, как в великом творце Чайльд Гарольда, всегда будила чувство стыда и негодования, которых не заглушить никакими фразами о свободе, труде и цивилизации…»
Ах, этот байронизм! Вечно изводящая тоска. Разъедающая хандра. Гнетущее разочарование. И полнейший дискомфорт в душе. Откуда он? Сам Байрон пытался разобраться в своих эмоциях и записывал в дневнике 5 января 1821 года:
«В чем причина того, что всю мою жизнь я был более или менее ennuye (скучающий — франц. — Ю. Б.)? И что сейчас, пожалуй, даже меньше, чем в двадцать лет, насколько я помню? Не знаю, как ответить на это, но полагаю, что дело в каких-то врожденных свойствах; по этой же причине я просыпаюсь в дурном расположении духа — и так уже много лет. Умеренность в еде и усиленные физические упражнения, к которым я по временам прибегал, почти ничего не изменили. Больше помогала сильная страсть — под ее прямым воздействием я бывал странно возбужден, но не подавлен.
Доза солей вызывает у меня кратковременное опьянение, подобно легкому шампанскому. А вино и другие крепкие напитки делают угрюмым, даже свирепым — но молчаливым, замкнутым и не склонным к ссоре, если со мной не заговаривать. Плавание также вызывает у меня подъем духа, но обычное мое состояние — подавленность, которая усиливается с каждым днем. Это безнадежно; ведь я теперь даже менее ennuye, чем в девятнадцать лет. Заключаю так из того, что мне тогда не нужны были азартная игра, вино или какое-нибудь движение, иначе я чувствовал себя несчастным. Сейчас я научился хандрить спокойно и предпочитаю одиночество любому обществу — кроме общества дамы, которой я служу. Но что-то заставляет меня думать, что я — если доживу до старости — „начну умирать с головы“, подобно Свифту. Однако я не так страшусь идиотизма или безумия, как он. Напротив, я считаю, что некоторые спокойные формы их предпочтительнее того, что считается у людей здравым рассудком».
Однако хандра не помешала (а может быть, наоборот, способствовала) Байрону стать титаном периода романтизма в литературе и искусстве. Он был кумиром эпохи, как Наполеон. Наполеон — символ победных войн и умелой организации государства, Байрон — символ литературной и частной жизни. Наполеон наводил порядок в Европе, а герои байроновских поэм «Гяур», «Корсар», «Манфред» и «Каин» выступали в роли мятежников, не принимающих этот порядок. Они отвергали любые его утешительные иллюзии и прямо смотрели в «ночной, беззвездный» мрак «железного века».
Нужно мне
Напомнить о тебе, цивилизация!
О битвах, о чуме, о злодеянии
Тиранов, утверждавших славу нации
Мильонами убитых на войне…
Нет, Байрон не принимал мировой порядок тиранов (хотя и преклонялся перед Наполеоном как сильной личностью). Сердце поэта переполнялось страданием, когда он видел, что происходит вокруг, и прежде всего в его любимой Англии. С язвительной иронией изъясняется он в своей любви к родине, перечисляя все ее «блага»:
Налог на нищих, долг национальный,
Свой долг, реформу, оскудевший флот,
Банкротов списки, вой и свист журнальный,
И без свободы множество свобод…
А далее саркастически добавляет:
Клянусь регенту, церкви, королю,
Что даже их, как все и вся, люблю.
Как тут не вспомнить строки Лермонтова «Люблю отчизну я, но странною любовью!..» Параллели слишком явные, хотя Михаил Юрьевич и утверждал: «Нет, я не Байрон, я другой…»
Но вернемся к первоисточнику, то бишь к Байрону, чтобы взглянуть на него с другой стороны. Мы уже сказали вкратце о политических взглядах поэта (вся его жизнь была вызовом обществу), о его вкладе в мировую литературу. Вскользь добавим, что Байрон еще и богоборец, гордец, бунтарь, скептик, храбрец, отличный спортсмен и стрелок, человек щедрый и одновременно скаредный… Но речь поведем не об этом, а исключительно о Байроне как покорителе женских сердец, для которого чувство греха было неведомо.
Наш соотечественник поэт Павел Антокольский записывал о Байроне в дневнике как о благожелательном, добром, спокойном человеке: «Но совсем иное — Байрон и женщины. Это, конечно, обыкновенный Казанова, но с рефлексией…» (28 мая 1964).
Чтобы избежать тоски, сплина, хандры, лорд Байрон прибегал к женщинам как к своеобразному лекарству. Женщины врачевали его скорбный и печальный дух. Сколько их было? «200, хотя эта цифра, возможно, неточна. Я их последнее время перестал считать», — записывал Байрон в своем дневнике в Италии. Многих он не помнил совсем, многим даже посвящал стихи. Эти музы составляли, кстати, целую коллекцию: Лесбия и Каролина, Элиза и Анна, Марион и Мэри, Гарриет и Джесси… Во всех стихотворениях, посвященных своим любовницам-врачевательницам, чародейкам-искусительницам, Байрон романтически страстен.