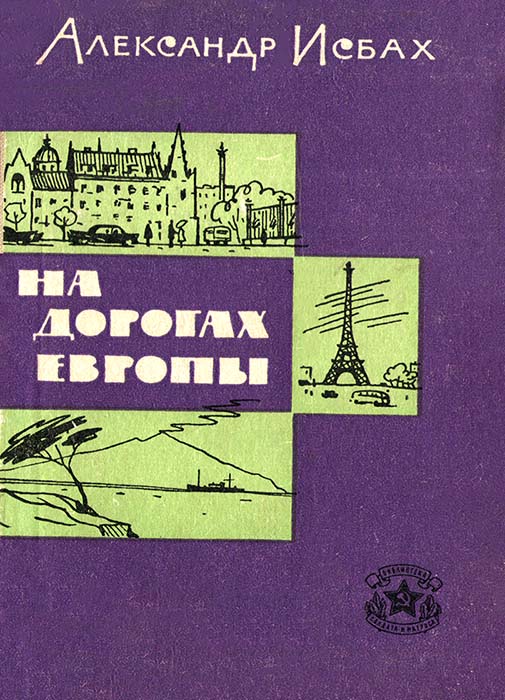территорию старой крепости, так хорошо знакомой нам по «Мятежу». Памятная доска:
«Здесь, в бывшей военной крепости, с 11—18 июня 1920 года бесстрашными героями-коммунистами во главе с видным политработником Советской Армии писателем Фурмановым был подавлен контрреволюционный мятеж».
Здесь, в этом старом каземате, сидел Фурманов в ожидании расстрела. Здесь заносил он в свой дневник последние, казалось, записи.
Здесь писал он о том, каким должен быть большевик и в жизни и в смерти. Эти страницы дневников — замечательный моральный кодекс Фурманова, воина-большевика.
Велика роль Фурманова в усмирении мятежа. Он проявил прекрасное знание обстановки, твердую волю, глубокую убежденность в правоте партийного дела и решимость умереть за Советскую Республику. Фурманов сумел бескровно ликвидировать мятеж, провести большую воспитательную работу в массах здесь, в Средней Азии, в чрезвычайно сложных условиях многонационального Семиречья.
Совсем недавно в речи, посвященной 40-летнему юбилею Казахской ССР, Никита Сергеевич Хрущев, хорошо знавший Фурманова еще по совместной работе в политотделе 9-й Кубанской армии, отметил:
«Большую роль в разгроме врагов советской власти в Казахстане сыграли такие замечательные военные и политические работники, как М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, В. И. Чапаев, Д. А. Фурманов…»
Мы подымаемся высоко в горы. Солнце золотит снеговые шапки.
Точно в почетном карауле стоят по обочинам дороги тяньшанские голубые ели, тополя, березы, дубы, карагачи…
Средь гор открывается широкая долина. Поселок Медео. Знаменитый международный высокогорный каток.
А в поселке… дом, где когда-то Фурманов создал первый красноармейский госпиталь… Он приезжал сюда (запись в дневнике: «А Медео — какая это чудная местность! Сколько раз мы скакали туда верхами…»), он бродил по этим дорогам, любовался величественным хребтом Тянь-Шаньских гор и думал о людях, о тех, кто не щадил ни здоровья, ни жизни в борьбе за народное счастье.
…Из Алма-Аты воздушный прыжок в Ташкент.
Опять оживает история. Фурманов, начальник политуправления Туркестанского фронта, шагает с нами по старым ташкентским улицам.
На встречах в Доме офицера, в Университете немало ветеранов, помнящих еще старые, боевые годы, соратников Фрунзе и Фурманова. Нельзя слышать без волнения, как читает студент четвертого курса Хозрабкулов отрывок из «Чапаева» на узбекском языке. А речь в этом отрывке идет о Николае Хребтове… А Николай Хребтов — генерал Хлебников сидит тут же в зале и подозрительно часто моргает совсем еще молодыми ястребиными глазами.
…Последний вечер в солнечном гостеприимном Самарканде. И самолет уносит нас в Москву. Мы совершили только часть пути по местам, связанным с жизнью и борьбой Фурманова.
Впереди еще Урал… И Башкирия… И река Белая. И Красный Яр. И станица Сломихинская, станица, носящая, сейчас имя Фурманова.
Впереди еще Кубань и места, связанные с красным десантом, с разгромом Улагая (именно за эту операцию Фурманов был награжден орденом Красного Знамени). Впереди еще города Закавказья…
Он умер совсем молодым. Но как богата была его жизнь!
Он написал в сущности только четыре книги. Но жизненного материала накопил еще на двадцать.
Путешествие по фурмановским местам для нас было поездкой не в историю, не в далекое вчера, а в сегодня и в завтра.
Писатель-воин-большевик заслужил ту народную любовь, горячее проявление которой мы видели и в Иванове, и во Фрунзе, и в Алма-Ате, и в Ташкенте…
О такой любви можно только мечтать.
В 1921 году я приехал в Москву с вещевым мешком, в котором лежали две смены белья и сверстанные листы сборника моих стихов, так и не увидевшего свет. Стояли холодные ноябрьские дни. Прямо с вокзала я пешком через весь город отправился в университет и узнал, что прием окончен два месяца тому назад. Добиваться было бесполезно. Никого здесь не интересовало то, что в своем городе я занимал «высокое» положение председателя Союза поэтов.
Однако мне было всего семнадцать лет, и долго грустить было не в моем характере. Вскоре меня приняли на работу в Центральное управление Роста в качестве инструктора печати.
Однажды, в поисках связей с московскими литераторами, я отправился в сопровождении своей столь же молодой приятельницы, мечтавшей об артистической славе, в кафе Союза поэтов. Оно помещалось на Тверской улице и носило интригующее название «Домино».
Там все желающие могли читать стихи с эстрады. Стихи тут же обсуждались присутствующими поэтами. В кафе часто бывали Маяковский, Каменский, Есенин.
Я очень волновался. Не то чтобы я не был уверен в качестве своих стихов, а все же… Ведь так много завистников!
Неизвестные мне поэты пили чай, читали стихи. Стихи были непонятные и, как мне казалось, уступали моим. Председательствовал могучий белокурый бородач, носивший, как я узнал позже, весьма поэтическую фамилию Арго. Он показался мне симпатичнее других, и я послал ему записку: «Прошу дать слово для чтения стихов». Я подписался и прибавил в скобках: «из провинции». Не председатель Союза поэтов, а просто: из провинции.
Передо мной выступал какой-то носатый критик, ругавший пьесу Маяковского «Мистерия-буфф». Я лихорадочно повторял в памяти слова своих стихов.
Читал я лучшее стихотворение. Оно было напечатано на первой странице «Известий губисполкома» и открывало мой неизданный сборник. Я читал с выражением, с жестами:
Мы идем по проездам больших площадей,
Мы идем по глухим закоулкам.
И шаги окунувшихся в вечность людей
Раздаются протяжно и гулко.
В зале разговаривали, звенели ложечками. Но я ничего этого не замечал.
Мечтая о мире безбрежном,
Орли́те на мыслей суку…
Последние строчки стихотворения даже мой земляк и соперник поэт Степан Алый считал новым достижением пролетарской поэзии.
Мокрый, дрожащий от вдохновения, сошел я с эстрады и сел рядом со своей подругой. Она ласково посмотрела на меня.
— Слово имеет Владимир Маяковский, — объявил председатель.
Я даже вздрогнул от ужаса. Я достаточно уже был наслышан об остром языке этого поэта.
— Нина, — шепнул я соседке, — Ниночка, что-то жарко здесь. Может, пойдем погуляем?
— Что ты, Саша! Ведь Маяковский!
Я приготовился ко всему.
Высокий, широкоплечий поэт поднялся на эстраду. Голос его, казалось, едва умещался в маленьком зале.
— Без меня тут критиковали мою «Мистерию», — сказал Маяковский. — Это уже не первый раз. В газетах появляются какие-то памфлеты, плетутся какие-то сплетни. Давайте в открытую. А ну, дорогой товарищ, — обратился поэт к носатому журналисту, — выйдите при мне на эстраду. Повторите ваши наветы. Боитесь? Не можете? Косноязычны стали! Скажите «папа» и «мама». А еще называетесь критик!.. Критик из-за угла. Вам бы мусорщиком быть, а не журналистом.
Мне