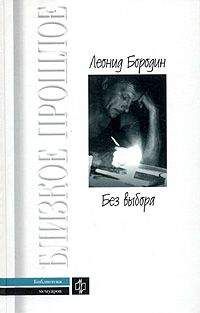Один и тот же оперативник мог с утра «работать» с русским, а после обеда с евреем. И эта способность абстрагироваться от собственных пристрастий объективно безусловно положительная особенность полицейской психологии. Важно — во имя чего происходит абстрагирование. Уже говорил, моя самостоятельная жизнь началась в школе милиции, и, как несостоявшемуся «менту», мне всегда был любопытен и интересен психологический план человека «невидимого фронта»… Но и об этом подробнее в другом месте…
Иной, более существенный нюанс русско-еврейского расклада времен «позднего» социализма: еврейские интеллектуалы, ни в какой коммунизм давно не верящие, активно «подыгрывали» русско-советскому марксизму, видя в нем защиту от эскалации антисемитизма; русские интеллектуалы, столь же не верящие в коммунизм, марксизму подыгрывали из двух основных соображений: противореча всякой форме национализации бытия, марксизм как бы онтологически противостоял и сионизму, это во-первых; во-вторых же — Советский Союз до последних дней своего существования был единственным государством в «западном» мире, где национальный капитал не принадлежал евреям.
Кто выиграл, кто проиграл в итоге всех этих занимательных и вполне безопасных игр? Из анекдота середины девяностых: «…Гусинский, Березовский, Смоленский и не примкнувший к ним Абрамович…»
А в конце шестидесятых в политлагере под номером 11 была популярна другая шутка, правда, без злости или иных недобрых чувств: «…Ронкин, Смолкин, Иоффе и Золиксон…» Это члены самой крупной и, безусловно, самой профессиональной марксистской подпольной организации из города Ленинграда. Ничего дурного сказать об этих людях не хочу. Борцы за социализм, искренне верящие в то, что в Советском Союзе и нужно, и можно заменить диктатуру буржуазии подлинной диктатурой пролетариата, все они достойно отсидели свои сроки, и (по крайней мере, насколько мне известно) ни один из них нынче не висит, вцепившись зубами, ни в пирог власти, ни в финансовый пирог.
Но вот чуть позже, кажется в семидесятом, «пришла» в зоны другая молодежная еврейская группа — из города Рязани. В нашу «малую семнадцатую» попал самый молодой из группы. К сожалению, помню только имя— Шиман. То был уже совсем иной типаж. А.Синявский как-то говорил: «Евреи — это жемчуг, рассыпанный по миру». Так вот, эти мальчики из Рязани свою «жемчужность» осознавали вполне.
«Когда-то мы научили вас торговать. Придет время, и мы научим вас демократии». Я тогда спросил: «Сколь же глубоко будет демократическое бурение нашей русской твердолобости?» Вдохновенно-пророчески глядя мне в глаза и уже зная, что до ареста я работал директором школы, юный мессианец ответил: «Ну, к примеру, директоров школ будут выбирать ученики».
Руководитель этой группы, некто по фамилии Вутка, в программном документе объяснял «историческое уродство» Российского государства: оказывается, все дело в том, что на территории России не было строительного камня. Соответственно, не было замков и вообще нормальной эпохи Средневековья, когда выковывалось чувство личного человеческого достоинства. Отсюда всеобщая рабская психология и все из того проистекающее.
Позже в Москве, в семидесятых, я вдоволь наслушаюсь и начитаюсь подобных импровизаций в более профессиональном исполнении.
И вообще, взрыв русофобства в те годы — особая тема. Хамские (именно хамские, а не просто критические) обобщения на предмет русской истории, русского быта или русского характера — когда прочитывалось подобное, то оно было равнозначно личному оскорблению. Как бывает: по телефону некто обхамил и бросил трубку. Ни возразить, ни в морду дать!
* * *
Нарушая хронологию откровений, об одном случае с, так сказать, до сих пор длящимися последствиями поведаю, не без колебаний все же, потому что именно этот случай в письменном изложении менее других прочих, о каких мог бы рассказать, увидится оправданным или справедливым…
Было это в середине семидесятых. Кто-то из приятелей в домашней обстановке с восторгом рассказывал об очередной новинке самиздата: оригинальность языка, блеск остроумия и, как говорится, всякому Ивашке по рубашке, то есть «суперантисов»; автор сей крамолы весь в гонениях и притеснениях, и дай Бог ему успеть по израильской визе выдавиться, пока удавку не накинули.
Здесь, в этой же компании, зашел разговор о том, что всю так называемую «хельсинскую группу» обложили поквартально, что все считают — «будут брать», а сами «хельсинцы» в это не верят, говорят, власти не нужны «непопулярные» процессы накануне очередного Хельсинского совещания и происходит очередная акция запугивания и «прессухи».
Из активистов «хельсинской группы» я был знаком с Людмилой Алексеевой, с Орловым и Гинзбургом. Орлов и Гинзбург жили в одном районе— в Беляево, дом от дома метрах в ста или чуть более. Зная цену слухам в околодиссидентской среде, решил сам посмотреть обстановку и поехал в Беляево.
«Обложка», каковую увидел вокруг домов Орлова и Гинзбурга, была сравнима лишь с ситуацией отъезда Натальи Солженицыной, когда пришедшие на проводы буквально протискивались сквозь «оптимистов в штатском». К тому времени сам уже по крайней мере трижды прошедший процедуру «забирания», нутром почуял ситуацию завершения «разработки». Время было вечернее, машины у подъездов стояли с зажженными габаритами, дверки некоторых машин приоткрыты, и внутреннее освещение позволяло рассмотреть простые советские лица, «голубоглазые в большинстве», как пелось в популярной песне. Нет, конечно, это была уже не «наружка», когда объекту демонстрируют слежку, чтоб заметался по квартирам, зазвонил по телефонам и как можно полнее выявил свою антисоветскую прыть. И если предположение верно, к утру машины исчезнут, «объекты» расслабятся, а часам к десяти — настойчивый звоночек в дверь…
У Гинзбургов всегда кроме домочадцев кто-нибудь еще… Некоторое возбуждение… Но не более нормы. На мое предположение, осторожно высказанное, Александр Гинзбург только отмахнулся. «Ты же знаешь, — сказал, — когда берут, заранее не предупреждают». Тоже прав. Меня трижды «брали», и трижды неожиданно. И все же я остался при своем мнении — чем-то ситуация была необычной… «Можно проверить, — предложил, — заберу какую-нибудь макулатуру, если остановят…» «Ну и что? — пожал плечами Гинзбург. — Могут остановить, могут не остановить». Тоже прав. «Возьми, если хочешь». Кивнул на стеллажи. И тут мой взгляд остановился на обложке со знакомой фамилией. Это и был автор того самого сочинения, о сатирико-критических достоинствах которого днями раньше восторженно повествовал один мой знакомый.