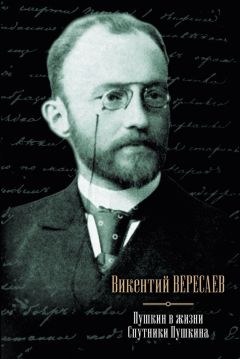Они пригласили меня прийти к ним днем. Я провел у них целый день до позднего вечера. Мне было очень хорошо. Когда, провожая меня, все стояли в передней, Катя вдруг сказала:
— Приходите завтра опять к нам.
И все подхватили:
— Правда, приходите!
Начался для меня какой-то светлый, головокружительный, непрерывный праздник. Каждый раз, когда я вечером прощался, они меня приглашали к себе на завтра, и я совсем исчез из дому. Но теперь были праздники, а у нас дома смотрелось на это так: праздники — для удовольствий, в это время веселись вовсю. Зато будни — для труда, и тогда удовольствия только мешают и развлекают. А теперь были праздники.
Очень большая, темноватая гостиная с полированными восьмигранными деревянными колоннами. Колонны на середине высоты охвачены венками из резных дубовых листьев. Стрельчатые окна, вверху их — разноцветные мелкие стекла, синие, красные, зеленые, желтые. Мария Матвеевна, полная, с доброй улыбкой, сидит в кресле и расспрашивает меня о здоровьи папы и мамы, о моих гимназических делах, о бабушке и тете Анне. Муж Марии Матвеевны, Адам Николаевич, высокий, плотный и бритый, молча расхаживает по гостиной и только изредка, посмеиваясь, вставляет в разговор слово. Тут же и сестры Марин Матвеевны и девочки, конечно.
Эти все разговоры — так, введение только. Потом мы остаемся в своей компании — Люба, Катя, Наташа, я, — и с нами неизменно Екатерина Матвеевна, тетя Катя, сестра Марии Матвеевны, с черными смеющимися про себя глазами, очень разговорчивая. Ей не скучно с нами, она все время связывает нас разговором, когда мы не можем его найти. Как теперь догадываюсь, — конечно, она неизменно с нами потому, что нельзя девочек оставлять наедине с мальчиком, но тогда я этого не соображал.
Увлечение мое морской стихией в то время давно уже кончилось. Определилась моя большая способность к языкам. Папа говорил, что можно бы мне поступить на факультет восточных языков, оттуда широкая дорога в дипломаты на Востоке. Люба только что прочла «Фрегат Палладу» Гончарова. Мы говорили о красотах Востока, я приглашал их к себе в гости на Цейлон или в Сингапур, когда буду там консулом. Или нет, я буду не консулом, а доктором и буду лечить Наташу. — Наташа, покажите язык!
Она отказывается, хохочет. Я рисую на бумаге Наташу с высунутым длинным языком и себя рисую, — стою перед нею и держу ее за язык.
Катею я все время исподтишка любовался и не мог понять, — почему я давно не заметил, какая она красавица. Лицо было чудесного бело-матового тона, легко красневшее нежным румянцем; медленный взгляд глаз в сторону; и эта ее улыбка. Мне и теперь кажется, что Катя была исключительною красавицею, с удивительно тонкими и изящными чертами лица. Много позже, когда я в Лувре смотрел на портрет Монны-Лиэы, — что-то в ее загадочной улыбке мне было знакомое, — ее я видел у Кати. И еще мне напомнил Катю портрет возлюбленной Пушкина, графини Воронцовой, где она стоит около органа, в берете со страусовым пером.
4 января, в день моего рождения, был, по обыкновению, танцевальный вечер у нас, — были и Конопацкие. 5 января — пост, и в гости нельзя. Шестое — последний день праздников — провел у Конопацких. Я их пригласил прийти весною к нам в сад. Простились. И — трах! — как отрезано было ножом все наше общение. Началось учение, — теперь в гости нельзя ходить; это слишком развлекает. Но в душе моей уж неотступно поселились три прелестных девических образа.
* * *
Это проводилось у нас очень строго: делу время, а потехе час. В учебное время — никаких развлечений, никаких гостей. Даже если очень какой-нибудь интересный был концерт или спектакль, мама отпускала нас неохотно, и это всегда было исключением. Даже в воскресенья и праздники во время учения — все равно: зачем в гости? Мало братьев и сестер? Играйте между собою, сколько угодно. Мы росли, как в монастыре, и совсем отвыкали от общения с людьми, — только с товарищами виделись в гимназии. Тетя Анна возмущалась таким воспитанием, доказывала маме, что мы растем настоящими дикарями, что так девочки никогда ни с кем не познакомятся и не выйдут замуж. Мама возражала:
— Э! Все в божьей воле! Я вот сама никогда ни с кем не знакомилась, собиралась в монастырь, — а вот вышла же за папочку. Господь захочет, — все будет так, как надо.
По-видимому, родители очень боялись, чтобы из нас не вышли светские щелкуны и бездельники. Такими мы не вышли. Но большинство из нас на всю жизнь остались неразговорчивыми домоседами-нелюдимами.
Карты считались очень опасным развлечением, в них дозволялось играть только на святки и на пасху. Зато в эти праздники мы с упоением дулись с утра до вечера в «дураки», «свои козыри» и «мельники». И главное праздничное ощущение в воспоминании: после длинного предпраздничного поста — приятная, немножко тяжелая сытость от мяса, молока, сдобного хлеба, чисто убранные комнаты, сознание свободы от занятий — и ярая, целыми днями, карточная игра.
Однажды на этой почве произошло большое недоразумение. Младший мой братишка Володя увидал, что сестры в будни играли в «дураки», и начал их стыдить:
— Как вам не стыдно? Разве не знаете, что карты — святая игра? В них можно играть только в очень большие праздники!
* * *
Была такая хрестоматия Ходобая и Виноградова, — с разными отрывками и рассказцами для перевода с латинского на русский и с русского на латинский. Попался мне там один рассказец: «Геркулес на распутьи». И вдруг вздумалось мне переложить его в стихи.
До тех пор никаким сочинительством я не занимался. Раз только, когда мне было лет девять, я сшил себе хорошенькую тетрадку, старательно ее разлиновал, на первую страницу «свел» очень красивый букет из роз, — сводные картинки у нас почему-то назывались хитрым и непонятным словом «деколькомани», — надписал заглавие: «Сказка» и дальше стал писать так:
Наступил вечер. В кустах сидел мальчик небольшого роста и ел яблоки. Вдруг из ямки выскочил один оборванный мальчик и сказал:
— Мальчик, хочешь, я тебе расскажу сказочку, а?
Но дальше ничего не мог придумать.
Теперь мне неожиданно захотелось переложить в стихи рассказ из хрестоматии Ходобая. Когда сочинилось четыре стиха с рифмами, я подбодрился и стал сочинять дальше. С неделю сочинял. Старался, потел, падал духом и опять подбадривался. Оживить рассказ не хватало фантазии, и я рабски старался держаться подлинника. В результате всех трудов получилось следующее замечательное произведение:
НА РАСПУТЬИ
Алкида некогда, с которым в силе
Никто б равняться не посмел,
Богини две, явившися, спросили,
Какой себе желает он удел.
Одна из них была почти совсем нагая,
Со взором наглым и живым;
Себя самодовольно озирая,
Она явнлася пред ним.
«Если бы, — она сказала, —
Ты последовал за мной,
То тебе б я показала,
Как приятен моя покой.
Ты примеру большей части
Человеков подражай,
И в несчастья, как и в счастья,
Лишь меня ты призывай».
— Какую ж долю ты мне предлагаешь? —
Спросил Геракл, оборотяся ко другой,
Которая пред ним стояла
Во всем величии своем.
Она была не так прекрасна,
Как Сладострастье, ко зато
К себе всех смертных привлекало
Ее спокойное лицо.
На Геркулеса посмотревши.
Она сказала: «Если ты
Захочешь следовать за мною.
То брось все сладкие мечты.
Не предаваяся покою.
Не испугавшися труда,
Ты должен трудною дорогой
Идти без страха и стыда.
За мной идут немногие,
Но всё великие мужи,
Которые безропотно
Несут тяжелые труды.
Но я веду их всех к бессмертию,
Введу в собрание богов,
И будет славе их бессмертная
Блистать в теченье всех веков».
Тогда-то, свыше вдохновенный,
Воскликнул юноша: «Тебя
Я избираю, Добродетель,
Во всех делах вести меня.
Пускай другие предаются
Тому презренному покою,
А я тебе тобой клянуся
Всегда идти лишь за тобою!»
Тула