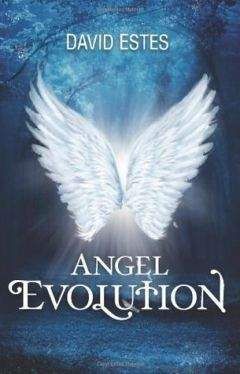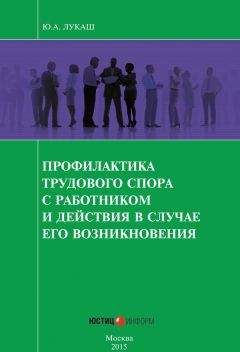При такой уверенности в существовании органической связи между умственным развитием и постепенным просветлением духа было естественно, что теоретическая работа сопровождалась у Станкевича непрерывным самоанализом. По мере усвоения системы Гегеля, то есть по мере уразумения все новых и новых сторон бытия с точки зрения развития единой идеи, он естественно должен был спрашивать себя: приблизился ли он соразмерно к согласию с самим собою, к душевной гармонии?
Этот вопрос был для него источником сильных мучений. В своих письмах за этот период он беспрестанно то жалуется, то негодует на свою разорванность, на внутренний раздор, на отсутствие душевной устойчивости. С горечью говорит он о том, что, кроме способности ощущать радость и горе и еще рефлектировать, нет в нем силы, которая имела бы право назвать себя: я. Он раб своей капризной натуры, им играют впечатления: погода, дорожные приключения, каждый переулок в мало знакомом городе могут похвастать своим могуществом над ним. Когда же будет достигнута эта желанная верность духа самому себе? Для него нет истины выше той, что человек должен в самоотречении обрести себя (im Aufgeben seiner selbst sich selbst finde[87] {58}); отчего же она только в голове? «Сердце сухо, пусто и капризно оттого, что ему этого sich selbst finden нужно. Отчего же это ему не дается? Ведь когда хочется есть, и бульон стоит перед тобою, ты просто нальешь его себе и выпьешь. Отчего тут не так?»{59} Минутами ему кажется, что он никогда не достигнет внутреннего единства, – тогда им овладевает отчаяние: назади вздор, призраки, впереди голо. Он говорит себе, что мало знать добро и красоту в их отвлеченной сущности, необходимо научиться узнавать их в конкретном, а для этого лучшее средство – созерцание общего, человеческого. Поэтому он решает заняться историей, которая одна спасает человека от субъективных капризов, одна может дать ему опору. Когда после немецкой истории Менцеля он непосредственно переходит к чтению романа Жорж-Занд, его охватывает ужас{60}: как тяжка эта душная сфера частностей и индивидуальных страстей! Да, индивидуальное – вот путы, связывающие человека, мешающие ему открыть глаза на всю природу. Кто хочет быть свободным и цельным, должен уйти из индивидуального в общее, рассчитаться с жизнью, с людьми, сию минуту уладить вокруг себя все личное.
Между тем такова жизнь: кругом путаница, дрянь, недоразумения, и все это требует внимания, раздражает, мучит и не дает безмятежно наслаждаться прекрасным. Как уладить все это? И что делать человеку, если он имел неосторожность запутаться в такой узел личных отношений? – На это Станкевич без колебаний отвечает теперь: разрубить узел! Правда, он понимал, насколько опасен этот путь. Разрубить узел, значит, прежде всего, свалить беду на другого, и в таком решении к высоким мотивам легко могут примешаться и самолюбие, и эгоистическая жажда спокойствия. Но он отвергает эту рассудочную оглядку: высший долг человека – быть верным самому себе. Поступай так, чтобы во всем, что ты делаешь, ты был таков, как в самом деле, и не думай о последствиях, – их все равно нельзя учесть никаким исчислением, а этот расчет отнимает способность охватить все разом из живого, действительного чувства. Спасение в том, чтобы уметь в отношении каждого житейского факта сразу определить непосредственное хотение своего я и затем, не стесняясь ничем, поступать так, как велит этот внутренний голос; только таким способом можно сохранить свою цельность среди хаоса действительной жизни.
Упорная работа над собою в направлении к этой цели, рядом с изучением Гегеля, которое должно быть другим, умозрительным путем вести к той же внутренней цельности, составляет главное содержание духовной жизни Станкевича в его последние годы. Задача была трудна: он сравнивает себя с человеком, который должен на волнах заниматься изобретением компаса, и завидует тем счастливцам, которые получили гармоническое духовное воспитание еще до вступления в самостоятельную жизнь. Перед ним самим эта задача стояла в очень конкретной форме. Он уехал из России, не покончив своих отношений с Бакуниной. Бедная девушка глубоко страдала, и он знал это, да и письма Михаила Бакунина напоминали ему об этом. Надо было кончить мучительную историю – но как? Он не любил, это было для него уже вполне ясно; порвать – значило нанести девушке, так простодушно доверившейся ему, смертельный удар. Но при тех взглядах на жизнь, до которых он теперь созрел, иного выхода не было. «Было время, – время мистицизма в моей жизни, когда, по преданию, по недостойной любви к пошлому миру и спокойствию, я считал все делом окончательным, сковывающим навсегда выбор сердца. Я отрекаюсь от этих идей. Если в отношениях между людьми есть ошибка, то она должна быть исправлена. Если человек должен страданием искупить свою ошибку, то он не должен сделаться животным»{61}. А жениться без любви – значит именно низвести себя и женщину на степень животных; пусть же лучше девушка останется на всю жизнь одинокой, только бы ей спасти свое человечество. Это решение стоило Станкевичу тяжелых усилий, но поступить так он считал своим долгом по отношению к себе и к ней, и только безвременная смерть Бакуниной (она умерла в конце 1838 г.) избавила его от необходимости совершить формальный разрыв.
Именно эта неожиданная развязка, снявшая с его души тяжелое бремя, по-видимому, много способствовала внутреннему освобождению Станкевича. Личная коллизия назойливо и нетерпеливо требовала решения; теперь в личной жизни более не было острых осложнений, можно было ровнее идти к цели. И действительно, в последний год жизни Станкевич становится как бы светлее и радостней. Он продолжает работать над собою, но уже без той нетерпеливости и, главное, без принуждения. Он сознает, что ему еще далеко до внутреннего единства, но он уже знает, что насилием над собою ничего не возьмешь. Не беспокойство и рефлексия, а только спокойное вникание в сущность вещей может вывести на путь. Надо дать себе волю, надо быть снисходительным к собственной индивидуальности и верить ей, иначе она еще больше будет тебя обманывать. Он теперь с доверием смотрит в будущее; надежда сразу достигнуть духовной свободы чрез философию не оправдалась, но он яснее видит путь: «nur ruhig[88] и делать, что хочется, потому что прежде всего надо быть человеком, это главный фах, и всякое принуждение, особенно археологическое, сейчас губит человечество»{62}. В своих письмах к друзьям он теперь беспрестанно повторяет: не рефлектируй; когда трудно становится решить что-нибудь, когда начинаешь путаться в антиномиях, – переставай думать и живи. Мысль может уловить лишь отдельные крупицы истины, верно же вполне схватить вещь можно только из общего живого чувства.