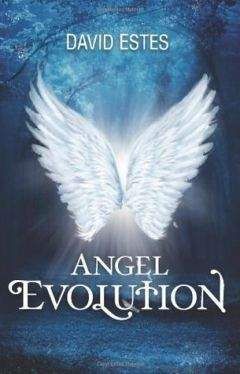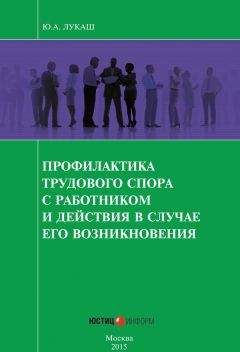Именно эта неожиданная развязка, снявшая с его души тяжелое бремя, по-видимому, много способствовала внутреннему освобождению Станкевича. Личная коллизия назойливо и нетерпеливо требовала решения; теперь в личной жизни более не было острых осложнений, можно было ровнее идти к цели. И действительно, в последний год жизни Станкевич становится как бы светлее и радостней. Он продолжает работать над собою, но уже без той нетерпеливости и, главное, без принуждения. Он сознает, что ему еще далеко до внутреннего единства, но он уже знает, что насилием над собою ничего не возьмешь. Не беспокойство и рефлексия, а только спокойное вникание в сущность вещей может вывести на путь. Надо дать себе волю, надо быть снисходительным к собственной индивидуальности и верить ей, иначе она еще больше будет тебя обманывать. Он теперь с доверием смотрит в будущее; надежда сразу достигнуть духовной свободы чрез философию не оправдалась, но он яснее видит путь: «nur ruhig[88] и делать, что хочется, потому что прежде всего надо быть человеком, это главный фах, и всякое принуждение, особенно археологическое, сейчас губит человечество»{62}. В своих письмах к друзьям он теперь беспрестанно повторяет: не рефлектируй; когда трудно становится решить что-нибудь, когда начинаешь путаться в антиномиях, – переставай думать и живи. Мысль может уловить лишь отдельные крупицы истины, верно же вполне схватить вещь можно только из общего живого чувства.
В этом уважении к собственной индивидуальности, к своему непосредственному чувству и хотению Станкевич обрел ту цельность духа, которой он так жаждал до сих пор. В этом отношении чрезвычайно любопытен его новый взгляд на искусство. Элемент цельной индивидуальной жизни, прямого созерцания, нераздробленного знания – вот что является для него теперь наиболее ценным в искусстве[89]. По природе своей, по назначению, говорит он, человек всегда имел более или менее ясное сознание чего-то высшего, нежели все преходящие вещи, нежели он сам в своей единичности. Это незримое высшее мы называем Божеством. Человеческая фантазия непобедима: ей нужно созерцать это незримое – вот происхождение и смысл искусства; в нем человек непосредственно созерцает Божество. Но изображение носит лишь отпечаток Божества; дух не весь в этом внешнем образе, – он неизобразим и постигать его можно только духом.
Эти слова не были в устах Станкевича одной теорией. Последние месяцы своей жизни, живя то во Флоренции, то в Риме, он часто посещал музеи и памятники древности. Рассеянные в его письмах за этот период замечания о виденных им предметах искусства лучше всего свидетельствуют о полной зрелости его духа: так смотреть умеет только человек, внутренне свободный и цельный в своем отношении к миру, почти инстинктивно ассимилирующий себе или отвергающий. «Моисей» Микель-Анджело оставляет его холодным: здесь нет полноты, мира, любви, здесь нет Божества или, вернее, здесь из Божества осталась только сила. Законченность и удовлетворенность произведений греческого искусства доставляют ему глубокое наслаждение, но он смотрит на них как старший брат: древние скоро помирились, удовлетворились неполным, их мир еще далек от святости. Когда знаешь это, говорит он, и когда в самом деле есть еще что-то другое, что приносишь с собою, они благодетельно действуют на душу, но долго наслаждаться ими нельзя – они не отвечают собственному высшему запросу. О римском храме св. Петра он говорит, что в нем дышишь свободно и поднимаешь голову выше: «Я никогда не могу ждать от архитектуры чего-нибудь охватывающего душу своею необыкновенностью: душа выше ее; но она довольна, когда находит себе такое жилище»{63}.
Эти последние письма Станкевича дышат глубоким покоем и какой-то мягкой, вполне владеющей собою и сознающей себя силой. Не изучением Гегеля, но силою своего беззаветного стремления к идеалу человечности он в существенном достиг своей цели. Сознание своего внутреннего единства у него действительно превратилось в непосредственное регулирующее чувство, и в момент смерти он действительно стоял на той черте, где кончается внутреннее устроение человека и начинается постройка жизни. Он уже готов был переступить эту черту; им начинало овладевать нетерпенье: довольно учиться, иначе не успеешь жить, – а он уже знал, что значит жить. Безвременная смерть застигла его на самом пороге. Тургенев, сблизившийся со Станкевичем за несколько месяцев до его смерти, в начале 1840 г. в Риме, спустя шестнадцать лет, по просьбе Анненкова, записал свои воспоминания о нем; эта записка впервые была напечатана Л. Н. Майковым в январской книге Вестника Европы за 1899 год и не вошла ни в одно из собраний сочинений Тургенева{64}. Приведу из нее несколько отрывков, ярко рисующих личность Станкевича в пору его полной зрелости. Рассказав о юморе Станкевича, о его способности хохотать до упаду и мгновенно разыгрывать в лицах фарс, Тургенев продолжает: «И в то же время невозможно передать словами, какое он внушал к себе уважение, почти благоговение. Шевырев был в то время в Риме и ужасно льстил Станкевичу и вилял перед ним, хотя со всеми другими обходился, по обыкновению, с педантической самоуверенностью… Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его за собою в область идеала. Никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он. Фразы в нем следа не было; даже Толстой (Л.Н.) не нашел бы ее в нем… В нем была наивность, почти детская, еще более трогательная и удивительная при его уме». Станкевич охотно принимал участие в дружеских поездках по окрестностям Рима и в осмотре памятников и древностей, хотя часто плохо себя чувствовал: «но дух его никогда не падал, и все, что он ни говорил, – о древнем мире, о живописи, ваянии и т. д., – было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости». Станкевич был в это время уже смертельно болен, но, по свидетельству Тургенева, никогда не хандрил, никогда не жаловался на свое здоровье, и о болезни своей говорил не иначе, как в шутливом тоне. «Помню я, – рассказывает Тургенев, – раз мы шли с ним к Ховриным и говорили о Пушкине, которого он любил страстно, так же, как и Гоголя. Он начал читать стихотворение «Снова тучи надо мною», своим чуть слышным голосом… Ховрины жили очень высоко – в 4-м этаже. Взбираясь на лестницу, Станкевич продолжал читать и вдруг остановился, кашлянул и поднес платок к губам – на платке показалась кровь… Я невольно содрогнулся, а он только улыбнулся и дочел стихотворение до конца»{65}.