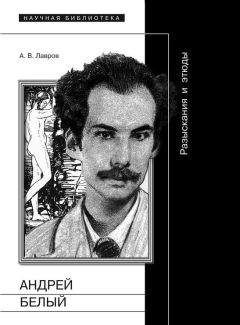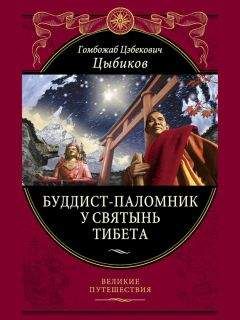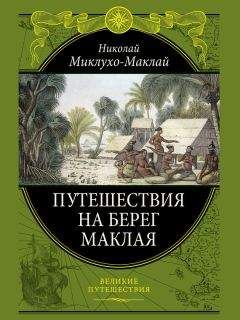Эти воспоминания согласуются с аттестациями Белого и Сергея Соловьева относительно формальной организации поэмы («не то проза — не то стихи» — впечатление слушателя от белого вольного ямба), указание же на образ Ницше подтверждается сообщениями автора (в цитированном письме к Иванову-Разумнику) о главных действующих лицах на ее мифопоэтической сцене: «…„дитя-Солнце“ <…> которого отец, лейтенант „Тромпетер“, есть нарочито опереточная фигура, а пророк которого — выведенный в поэме, есть базельский профессор Ницше <…>»[169].
В комментарии к «Символизму» — первом авторском изложении тематики утраченной поэмы — имеется указание на «Поэмы Оссиана» Джеймса Макферсона как на исходный импульс, предшествовавший воплощению замысла (Белый был наверняка знаком с какими-то из многочисленных переводов-переложений «оссиановских» текстов и с подражаниями Оссиану в русской поэзии конца XVIII — начала XIX в.[170], а также, возможно, с новым прозаическим переводом, появившимся в пору его отрочества[171]). В самом позднем и наиболее детализированном авторском рассказе о несохранившейся поэме — в главке «Дитя-Солнце» мемуарной книги «Между двух революций» — приводится другая параллель из западноевропейской литературы: «…под лепет берез я строчил: поэму „Дитя-Солнце“, которой две песни <…> успел окончить; ее сюжет — космогония, по Жан Поль Рихтеру, опрокинутая в фарс швейцарского городка, которого жители разыгрывают пародию на борьбу сил солнца с подземными недрами <…>»[172]. И далее Белый в общих чертах излагает диковинный сюжет своей полупародийной мистерии, вновь отмечая уже описанный ранее внешний повод к его развертыванию («Мы наблюдали однажды грызню белого понтера с рыжим сетером Коваленских; на следующий день я строчил про „рыжебородого“ праотца, ведущего бой с „солнечным“ лейтенантом»[173]):
«…вмешан профессор Ницше, — в усилиях: заставить некоего лейтенанта Тромпетера наставить рога лаборанту Флинте, чтобы от этого сочетания жены лаборанта с Тромпетером родился младенец, из которого Ницше хотел сделать сверхчеловека; но рыжебородый праотец рода Флинте вылезает из недр; он борется с Ницше; когда вырастает младенец, то он, снявши шкуру, подстригшись, надевши очки, нанимается, неузнанный, в гувернеры и похищает в горы младенца, чтобы в горных пещерах по-своему его перевоспитать; шарж сложнится; в него ввязывается и Менделеев, приехавший на летний отдых: в Швейцарию.
Первая песнь — „мистерия“; вторая — фарс: в окрестностях Базеля; продолжение — следует»[174].
Судя по этому схематическому пересказу, пародийная составляющая в сюжете поэмы была многослойной. Объектом пародирования — или, скорее, юмористического обыгрывания — был Ницше с его идеей сверхчеловека и образом Заратустры, скитальца по горам, возвышающегося над земной юдолью, и сам автор с его юношескими мессианскими чаяниями и «солнечными», «аргонавтическими» экстазами. Выстраивая коллизии, концентрирующиеся вокруг «солнечного» младенца, Белый апеллирует к своим мистическим фантазиям 1901 г., «эпохи зорь», которые соотносились с образом М. К. Морозовой, бывшей объектом его возвышенного, романтического поклонения: «… я хожу мимо ее дома, и однажды в окне дома вижу изумительной красоты мальчика; соображаю: „Это ее сын“; С. М. Соловьев шутит со мною: „Это и есть младенец, которому надлежит пасти народы жезлом железным“. Между нами развивается стиль пародии над священнейшими нашими переживаниями; и этот стиль пародии внушает мне тему 2-й „Симфонии“»[175]. В «Симфонии (2-й, драматической)» (1901) соответственно «младенец мужеского пола», с которым мистики-энтузиасты связывают свои провиденциальные упования, оказывается девочкой, переодетой мальчиком[176]; «пародия», развернутая в «симфонии», продолжается в новых вариациях на ту же тему, разыгранных теперь на условном «швейцарском» материале.
В сюжетных хитросплетениях поэмы Белого различимы и другие объекты пародирования: так, в загримированном «праотце», нанимающемся в гувернеры, просвечивает пушкинский Дубровский, скрывшийся в обличье француза-учителя Дефоржа; юмористически высвечивались и пародировались также реальные лица и ситуации (включив в «мистериальное» действо Д. И. Менделеева, отца Л. Д. Блок, Белый вспомнил даже о Боблове, имении Менделеевых неподалеку от блоковского Шахматова), и эти особенности «шутовского» замысла должны были нагляднее всего обозначиться в ненаписанных частях поэмы: «Шутки ради в третьей и четвертой песне мамаша „младенца“, мадам Флинте, оказывается незаконной дочерью Менделеева; ее мать — крестьянка деревни Боблово; отец ее, подслушавший ритм материи, — хаос; она— „темного хаоса светлая дочь“[177]; великий химик показывает фигу профессору Ницше, открывая ему: его внук — не плод любви дочери к лейтенанту, а — к захожему садовнику; садовничьи дети — не сверхчеловеки»[178]. Тем самым поэма, оставаясь плодом индивидуального творчества Андрея Белого, органично вписывалась в сферу коллективных «мистериально»-юмористических эскапад, которые в 1904–1905 гг. порождались стилем игрового «эзотерического» общения, установившимся между Белым, Сергеем Соловьевым, Александром Блоком и их близкими (особенно самозабвенно развивал этот стиль Сергей Соловьев, выдумавший будущих исследователей «секты блоковцев», с именами Лапан и Пампан). В создававшейся атмосфере шутливых импровизаций, как вспоминает Белый, «было просто, сердечно, уютно»: «Соедините: иронию Блока, блестящие, но барабанные, с грохотом, шаржи Сережи, мои остраннения их <…>; присоедините колючие реплики А. С. Петровского, и вы представите, что договаривались до гротесков»[179]. Поэтический образ «темного хаоса светлая дочь» в их интимном кругу однозначно соотносился с Л. Д. Блок, дочерью Менделеева, и зарождавшееся чувство Белого к ней, безусловно, привносило в «швейцарский» сюжет дополнительные личные обертоны, равно как в образе «солнечного» лейтенанта угадывалась связь и с «золотобородым аскетом» из 2-й «симфонии», и с ее автором, протагонистом «солнечного» хора, состоявшего из духовно близких друзей — членов кружка «аргонавтов»[180].
Таким образом, содержание поэмы «Дитя-Солнце», с одной стороны, проецировалось на лично пережитое, осмысленное в игровой перспективе, с другой — представляло собой, согласно позднейшей авторской аттестации, опыт «космогонии по Жан Поль Рихтеру». Это уподобление позволяет привнести в характеристику несохранившегося произведения дополнительные акценты. Имя классика немецкой литературы конца XVIII — начала XIX в. Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (1763–1825), известного под псевдонимом Жан-Поль (Jean Paul), встречается в текстах Андрея Белого, но не часто: в статье «Символизм» (1908) мимоходом говорится о «фантастике реальности», воплотившейся «в Гоголе „Мертвых душ“, в Жан Поль Рихтере и др.»[181], в комментариях (1909) к статье «Смысл искусства» сообщается (явно благодаря сведениям, почерпнутым из какого-то ученого компендиума), что «Жан-Поль Рихтер, Бенар, Бенлёв, Леон Готье высказались за первоначальность лирических форм поэзии»[182], — и предположение о том, что Белый мог досконально знать творчество этого писателя, было бы опрометчивым. Крайне маловероятно, что он знакомился с писаниями Жан-Поля в немецком оригинале. Усложненный, изобилующий громоздкими синтаксическими конструкциями и орнаментальными образными построениями, игрой слов, каламбурами, «темный» стиль немецкого автора Белый, далекий от совершенства — в особенности в молодые годы — во владении немецким языком, едва ли способен был освоить и по достоинству оценить. Даже гораздо менее сложную для восприятия иноязычным читателем книгу, философскую поэму Ницше «Так говорил Заратустра», во многом сформировавшую духовный мир Белого, он прочитал сначала в русском переводе и лишь три года спустя, летом 1902 г., в оригинале: «…я впервые читаю „Заратустру“ в подлиннике; и — упиваюсь ритмами его»[183]. В русских же переводах Жан-Поль был представлен хуже, чем кто-либо иной из плодовитых немецких классиков. Даже в пору, когда его творчество в России получило определенную известность, в 1820–1830-е гг., на русский язык были переведены лишь короткие фрагменты из его произведений, мысли и афоризмы; вышло в свет тогда всего одно отдельное издание, «Антология из Жан Поля Рихтера» (СПб., 1844), составленная И. Е. Бецким, а в русской печати повторялись сетования о том, что Жан-Поля мало переводят и что «он известен по одному только имени»[184].