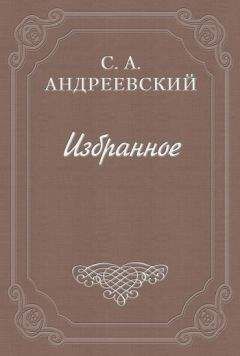В этих двух комнатах, кабинете и гостиной, сосредоточивалась показная жизнь Урусова. Семья и другие комнаты оставались в тени. Жена и сын, добрые и прекрасные люди, невольно стушевывались перед Урусовым. Но он любил их искренно, окружал их заботами, тревожился об их здоровьи, отстранял от них все неприятное, видел в них ближайших спутников жизни.
Я часто проезжал через Москву и всегда наведывался к Урусову. Каждый раз заставал его под властью какого-нибудь нового увлечения. Одно время он бредил фотографией… «Знаешь? Я замучил жену, сына и лакея, заставляя их позировать…» Затем вздумал заниматься своим садом по примеру двух героев Флобера, Бувара и Пекюше. Между прочим, он вырастил у себя очень удачный сорт черных роз, слава которых дошла и до цветочных магазинов. Однажды к нему обратились с просьбою продать эти розы для каких-то экстренных букетов. Он отказал и с комическою гордостью добавил: «Я продаю только цветы моего красноречия…»
Но помимо всего, у него каждый раз было на очереди благоговение перед каким-нибудь писателем или женщиной. Он открывал новых авторов, перечитывал старых. Впадал в длинные периоды платонической страсти к Ермоловой, к Дузэ. Писал к ним поэтические послания, носился с ними.
И рядом с этим утешался реальными прелестями какой-нибудь Розы или Ядвиги, находя в них несравненную пластику и удивительный темперамент. И мне невольно вспоминался тургеневский Шубин в «Накануне», когда, плача от неразделенной любви к Елене, он, еще не утерев слез, погнался за молоденькой горничной Аннушкой… Оправдание тут же подсказано Тургеневым: человек «нелюбимый» и в то же время «артист». Кстати, Урусов всегда называл свои фривольные приключения «суррогатом любви». Хотя Урусов был на пять лет старше меня, но мне никогда не думалось, что я его переживу. Он мне казался чрезвычайно крепким, с его могучею фигурою, упитанным телом и всегда веселыми глазами. Но вот как-то весною, на переправе, он простудился и схватил недуг, приведший его через два года к смерти. У него сделались нарывы в ушах. Затем появились глухота, головокружение с потерей равновесия и т. д. В течение этой болезни, сопровождавшейся постепенным угасанием жизни, особенно ярко сказалась вся пленительность его натуры, вся мудрая и поэтическая прелесть его мировоззрения. Незадолго до недуга, говоря как-то о своих сверстниках, он сказал: «Да. Мы все готовимся в мертвецы. Ну что же! это сословие имеет свои очень почтенные права…» И говорил он это не только совершенно спокойно, но даже с искреннею, веселою важностью.
Оправившись от первых нарывов, Урусов, несмотря на ослабевший слух и невралгию в ушах, тотчас же возвратился к нормальной жизни и даже отправился на сложную защиту в Самару. Вскоре затем он приехал по делу в Петербург и вызвал меня запискою пообедать с ним у Донона. Когда я вошел в занятую им маленькую комнату, причем случайно стукнул дверью довольно громко, он не поднял головы, занятый чтением какой-то книги за круглым столиком с двумя приборами. Он не слышал моего прихода и только когда я подошел к нему вплотную, встретил меня радостными восклицаниями. Голос его был по-прежнему свеж и звучен. Лицо не изменилось. Но говорить с ним было трудно: многих слов он не различал. «Погоди, погоди, – сказал он, – мы это сейчас устроим», – и воткнул в ухо маленький гуттаперчевый резонатор. Действительно, после этого к нему достигали все слова, но каждую фразу нужно было выкрикивать.
– Как же ты защищаешь? Ведь тебе трудно.
– Нисколько. Даже есть некоторое преимущество. Прежде каждый вздор меня волновал, я должен был протестовать, горячиться. А теперь я говорю только то, что мне нужно. А важные сведения сообщает мне записками мой товарищ по защите. Я теперь более объективен. Избавлен от всякого баласта.
Не помню, по поводу чего он сказал: «Но я, как старый атеист…» Против этих слов мне хотелось возразить. Из многочисленных заявлений Урусова в разных литературных кружках я знал, что он питает особенное нерасположение к Предопределению, Промыслу, Провидению, Воле Божией и прочим догматам, стесняющим свободу человека вмешательством Бога. Помню даже, как однажды он воскликнул: «Мы устранили этот авторитет – и чувствуем себя превосходно!»
Я ему заметил:
– Ты самодовольно называешь себя атеистом. Прав ли ты? Ведь вот недавно я где-то читал: «Наш разум так устроен, что он отрицает все, чего не понимает». Видишь ли, разум отрицает только потому, что не понимает. А если бы понимал? Истина может быть вне нашего понимания.
Урусов задумался, помолчал. Он издал несколько неопределенных звуков. Ничего похожего на его прежние протесты я не услышал. И наконец он равнодушно сказал: «Да, все возможно…»
В конце обеда к нам вошла жена Урусова, обедавшая где-то у своих знакомых. Из ее слов я узнал, что положение моего друга очень серьезное. И что меня поразило – она говорила, нисколько не стесняясь присутствием мужа, а он в это время спокойно доедал бисквитное пирожное. Было ясно, что обыкновенного разговора он совсем не слышит.
Летом Урусов поехал с женою в Вену, к хирургу Поллицеру. Затянувшиеся нарывы угрожали головному мозгу. Предполагалась трепанация черепа. Исследуя больного, Поллицер, между прочим, проговорил: «Sо tatenfähig! Wie schade!»…[3] Но решил погодить с операцией и посоветовал Урусову пить Карлсбад в каком-то местечке под Веной. Оттуда я получал от Урусова самые идиллические письма. Он был весьма доволен заботами жены, а сам перечитывал Гете и сообщал мне любопытнейшие выводы из этого чтения.
Возвратился он в Россию без особенной поправки. И все-таки, тотчас по возвращении, отправился на защиту куда-то в провинцию, взяв с собою в качестве помощника своего сына, а в конце осени выступил в Москве гражданским истцом в процессе Взаимного Кредита. С ватою в ушах, с головными болями, он произнес великолепную речь, единодушно восхваленную всеми газетными телеграммами. Это и была его последняя защита. К концу года он уже не выезжал из дому. Болезнь ушей осложнилась потерей равновесия. Он не мог стоять и ходить без посторонней помощи. Иначе у него являлось стремительное головокружение, от которого он падал. Наступила безнадежная глухота, сопровождаемая несмолкаемым шумом в голове. С ним можно было говорить только записками. Он ходил, поддерживаемый двумя людьми и опираясь на спинку легкого стула, который он подвигал вперед.
Он писал мне в начале 1900 года: «Меня посещают многие друзья. К концу дня скопляются целые груды автографов на подносах. Их убирает лакей».
Вскоре я к нему приехал. Тот же веселый вид, тот же звучный голос! Разговор посредством записок досадно замедлял беседу, но ее сущность и характер от этого ничуть не страдали. Урусов как будто не желал замечать наступивших осложнений. Между прочим случился такой эпизод. Оглянувшись по сторонам, Урусов спросил меня: «Здесь нет Marie?» (так звал он свою жену). Я помахал рукой, показывая, что она ушла в другую половину дома.