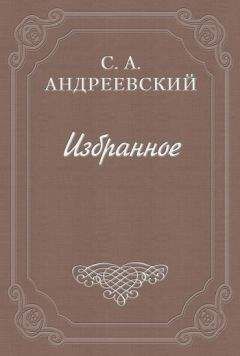Как передать психологию старости? И трудно, и скучно! В особенности – скучно для читателя. Помню, что в ранние годы я с острым любопытством желал заглянуть в душу стариков. Когда я стал цветущим юношей, я жаждал найти где-нибудь искренние и подлинные признания старцев: как они себя чувствуют, что в них осталось? Замечают ли они, что окружающая жизнь уже их «похерила»? Что молодежь их чуждается? Что их любезность к женщинам высмеивается? И почему они этого будто не замечают? И как это им не бросается в глаза?
Очень просто. Никто в глубине души не мирится со своей старостью. Каждый цепляется за остатки ощущений, как за нечто вполне похожее на прежнее. И если бы зеркала были совсем истреблены, то этот горестный самообман дошел бы до непостижимых нелепостей.
Впрочем, все окружающее заставляет вас понемногу убеждаться, что вы действительно предназначены к удалению из жизни. Вокруг вымирают все, кого вы знали. Получается обширная нива, побитая градом. Делается стыдно за свою жизнь, за свои годы. Переживаешь сверстников, товарищей, всех крупных людей своей эпохи, – видишь гибель пленительных молодых созданий, – собираешь в душе целый мир ушедших жизней, – примечаешь тот особый почет, который достается только инвалидам, уже имеющим свое прошлое, но безвредным для настоящего. Труднее двигаешься, меньше порываешься к делу.
А этот поздний почет и позднее доверие даже как-то коробят! Почти все ваши просьбы уважаются. И каждый раз будто слышишь за своею спиною:
«Воля покойного священна!»… Вам уже всегда пишут «глубокоуважаемый», точно вы уже глубоко зарыты под землею.
За всю мою жизнь я ни от кого не видел к себе столько неизменной, глубокой и всепрощающей нежности, как от Урусова. С годами его любовь обвивала меня все крепче и, наконец, я сделался его исключительной прихотью, его открытою слабостью, его привилегированным другом.
И это мне представляется чем-то просто невероятным после того, как я припоминаю себя в студенческое время. Имя Урусова уже гремело тогда на всю Россию. Проживая в Харькове, откуда еще не было железной дороги до Москвы, я и не мечтал когда-либо встретиться с этой знаменитостью.
Но прошли годы, и все устроилось чрезвычайно просто. Блестящий всероссийский адвокат вскоре оборвался на политическом процессе Нечаева. Его уличили в передаче запретных писем за границу и сослали в Венден, близ Риги. Он съежился, женился на немке, сделался отцом и, окончательно потеряв прежний заработок, кое-как перебивался. О нем замолчали. Новые судебные ораторы выступили на сцену; жизнь торопилась вперед; пришибленный Урусов стал помышлять о каком-нибудь выходе к лучшему существованию. У него были связи; его талант был еще в памяти у всех, – и вот ему дан был выход: для испытания ему предложили выступить не в протестующей роли защитника, а в охранительном звании товарища прокурора, и притом, не в русской столице, а в городе второстепенном и дипломатическом, – в Варшаве. Из Варшавы он был переведен в Петербург, почти одновременно с моим выходом в адвокатуру. После дела Веры Засулич петербургский прокурорский надзор как бы сразу обанкротился: Жуковский и я – ушли; председатель по уголовным делам Кони, недавний популярный обвинитель, был сослан в Судебную палату для разбирательства гражданских дел. Понадобился влиятельный официальный оратор. Нельзя было найти никого, кроме Урусова.
Мне помнится день, когда я его впервые встретил на прокурорском коридоре. Он мне показался неожиданно старым. Это был полный плечистый мужчина, с большим лбом, с плоско причесанными, почти седыми волосами, с крупным вздернутым носом, легкою бородкою вокруг четырехугольного лица, веселыми глазами, светившимися из-за золотого pince-nez, и приятною, баритонною, очень развязною речью.
Знакомство постепенно переходило в дружбу, нас отчасти соединил Кони, знавший Урусова еще по Москве, близкий в то время к моему дому и находившийся в опале. Развенчанный адвокат, развенчанный обвинитель и, наконец, я, товарищ прокурора, перешедший фатально в присяжные поверенные, – мы составляли естественную компанию. Кроме того, мы все трое тяготели к литературе. Наш разговор всегда был живой, необычный, нервный, интересный. Служба и профессия – мы это чувствовали – были как-то ниже нас.
Урусов казался поистине жалким в роли чиновника. Старенький шитый мундир с упругим воротником и металлическими пуговицами ужасно не подходил к его размашистой широкой фигуре. Жалованья ему не хватало. Он часто бывал стеснен в расходах, но всегда неизменно весел.
Впрочем, испытание длилось недолго. Года через два-три (в точности не помню) Урусова снова пустили в адвокатуру.
Неприметно я сближался с этим выдающимся человеком. Как ни странно, Урусов был одним из самых мечтательных людей своего времени. Казалось, все говорило против этого: адвокат, видный и не особенно разборчивый, с внешней стороны как бы практичный и бережливый. А в сущности? Блестящая даровитость, беспечный взгляд на жизнь, пленительный юмор, а затем – упоение легкими радостями существования, с сознанием нашей преходимости, – упрямый научный позитивизм с отрицанием Бога ради свободы – и вместе с тем преклонение перед красотою во всех ее формах и всеподавляющая страсть к литературе и поэзии.
За долгие годы нашей близости я теперь затрудняюсь определить и припомнить, какие именно мелочи повседневной жизни неприметно, при наших встречах, завлекали Урусова в какое-то исключительное, любвеобильное пристрастие ко мне. Кажется, начало его увлечения вызвано было моими стихами. Должно быть, в них было для него нечто индивидуально приятное. Вероятно, я чем-то случайно угождал его вкусам. После напечатания моего стихотворения «Мрак», Урусов, завидев меня издалека в коридоре гражданских отделений, куда он пришел в мундире для дачи заключений, – подбежал ко мне и, взглянув на меня с особенною нежностью, проговорил: «Да! После этой вещи ты должен себя чувствовать счастливым»… Конечно, я не понимал своего счастья, но эта неожиданная похвала радостно взволновала меня. Далее, например, в стихотворении «Май» Урусов находил необыкновенную прелесть в строке
Плодотворение, истома, поцелуй.
Он видел в этих словах особенную музыку, какую-то пленительную для него волну звуков, образуемую одним только сочетанием этих трех слов подряд, сообразно их длине и распределению гласных. Он многим повторял этот стих с расстановкою:
– Плодотворение… истома… поцелуй…
Но никому не умел втолковать, что ж тут особенного! И в том же роде были все его прочие комментарии к моим стихам. Я упорно уклонялся от его похвал, а он так же упорно продолжал их твердить, что доказывается нашей перепиской. Впрочем, все, кто был сколько-нибудь близок ко мне, знают, до чего я искренно отрекался от своего стихотворного сборника. Я его напечатал вторым изданием только потому, что в нем есть пережитое, есть «стихи моего сердца», есть попытка рассказать себя, но как нечто гармоничное, вполне достигнутое и достойное искусства, – я его и теперь отрицаю. И, конечно, не слабость Урусова к моим стихам упрочила нашу близость. Было нечто другое.