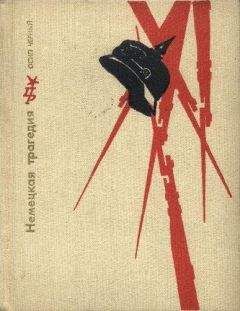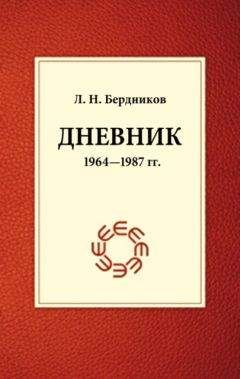Она обернулась и посмотрела на него с интересом.
— Одна сторона нервничает. Но почему именно вы, а не я, мне трудно взять в толк.
— Идите! — требовательно повторил офицер.
На улице их ждал крытый фургон. В таких фургонах ветеринарная инспекция перевозила обычно подлежавших уничтожению собак. Сзади была подножка с двумя ступеньками. Не так-то просто было на нее взобраться.
— Не толкайте меня! — сказала Роза, на этот раз с раздражением.
— Вас не толкают, а вам помогают.
Внутри было совершенно темно. Она скорее нащупала, чем разглядела, скамью вдоль одного борта. Другую скамью напротив заняли сопровождавшие.
На низкой скамье сидеть было неудобно. Несколько раз на поворотах Розу качнуло. Тогда двое с противоположной скамьи заняли места по обе стороны от нее.
Машина неслась по улицам.
— Куда вы меня везете? — спросила Роза.
— На месте узнаете.
Когда машина загудела и остановилась, а двое охранников вылезли, Роза заметила чугунные большие ворота и кирпичную высокую стену.
Охранник, оставшийся с нею, навел на нее ручной фонарик, словно бы удостоверяясь, что она здесь.
— Выходите! — приказали снаружи.
Она охватила взглядом частицу двора, огороженного непроницаемой стеной. Похоже было на каменный мешок. Ступени, по которым пришлось подыматься, были тоже каменные, крутые. Роза устала.
Но самое большое унижение ждало ее впереди.
В комнате со сводчатым потолком и зарешеченными окнами и скамьями вдоль стен горел тусклый электрический свет. Углы помещения были погружены в темноту. Ее опросили, задав много ненужных вопросов. Затем вошла женщина с сухим, черствым лицом. За нею следовало двое надзирателей.
— Разденьтесь, — приказала женщина арестованной.
— Это еще что за новости?
— Вам же сказано, извольте выполнить!
— Как? Раздеться совсем?
— Ну конечно! В первый раз вас, что ли, берут! Порядка не знаете?!
Роза начала медленно снимать с себя одежду. То ли вид хромой женщины смутил надзирателей, то ли ее сильный лучистый взгляд — они отвернулись.
Смотрительница стояла с каменным лицом и ждала, когда можно будет приступить к обыску.
Книга вторая. Долой правительство!
I
Дни заметно удлинились, и солнце пригревало землю. Но лопате она уступала неохотно, а то и не уступала совсем. Приходилось долбить ломом или киркой.
При хорошей сноровке и крепкой мускулатуре с такой работой еще можно было справляться. Человеку же городскому, не привыкшему к физическому труду, она давалась нелегко. Но он старался не отставать от других.
— Не усердствуй, Карл, — говорили ему вполголоса. — Спасибо никто не скажет.
Когда к отделению подходил старший, товарищи старались заслонить Карла.
Но старшего работа солдата в пенсне интересовала больше всего. На солдате была шапочка наподобие арестантской и сильно поношенная куртка. Вид он имел не очень-то воинский.
— Речи произносить легче, наверно? — насмотревшись, сказал старший.
— Смотря какие.
— А вот те, какие вы говорили.
— Нет, иные давались мне нелегко.
Старшего так и подзуживало поговорить. Сам он был из деревни, о Либкнехте никогда прежде не слышал и отношения к политике не имел. Но начальство наказало вести за ним наблюдение, намекнув, что Либкнехт человек опасный. На фронте большого вреда от него не будет, но в Берлине он многим причинял беспокойство.
И вот, наклонясь всем корпусом, он работал наравне со всеми: нажимал на лопату, вскапывая мерзлую землю.
— М-да, это не речи произносить, тут коленкор другой…
Сосед Либкнехта, разогнувшись, спросил:
— А вам приходилось когда-нибудь держать речь?
— Тебе-то что?
— Интересно, как это у вас получалось!
— Мое дело винтовка да вашим братом командовать. Попадете на передовую, узнаете, чем надо солдату интересоваться.
Он был не прочь постоять тут еще. Когда человек, орудуя лопатой, должен следить, чтобы башмак у него не развалился, и то и дело подравнивает пенсне на носу, любопытно понаблюдать за тем, как он швыряет рывками землю, особенно, если солдат не нравится и чем-либо раздражает.
Можно бы и потешиться немного над ним, но мешала одна закавыка. Сержант Друшке знал, что товарищи ревниво оберегают Либкнехта, и нередко ловил на себе их недобрые взгляды.
Мучить солдат во имя утверждения своей власти Друшке еще не привык; мучительство не превратилось пока для него в самоцель. Да и лучше было не портить отношений с людьми, у которых может оказаться оружие. Дисциплина в части, правда, хорошая, но отношений обострять не следует. Бомба не выбирает, куда ей упасть. Если уж упадет, лучше, чтобы рядом оказался солдат, который зла против тебя не имеет.
Друшке не очень и допекал берлинского выскочку, который будто бы вздумал там всех учить. Но одно обстоятельство сильно его беспокоило. Стоило ему объявить отбой, как к берлинцу начинал стекаться разный народ.
Являлись не только свои, но и солдаты соседних рот, даже других частей.
Повод находился всегда: то табаку ему приносили, тот спрашивали нитку пришить пуговицу, то газету.
Друшке пробовал отсылать людей, но из этого ничего не вышло. Не в казарме, так где-нибудь за кустами или в глухих закоулках, а встречи происходили.
Когда Друшке доложил ротному, тот выслушал его хмуро.
— Наблюдать-наблюдайте, а запрещать не годится. Он фигура известная, им тут занимаются люди повыше.
Действительно, командир рабочего батальона уже несколько раз справлялся, как ведет себя Либкнехт.
Конечно, нелегко было ему копать мерзлую землю, перетаскивать камни, гонять тяжелые тачки. И все же, попав на фронт, он не только наблюдал жизнь солдат и интересовался их настроениями, но и многое им разъяснял.
Газеты изо дня в день описывали готовность немцев постоять за землю и кайзера. На фронте газетная патетика теряла всякое подобие правдивости. Слишком жестоко было все вокруг.
Дисциплина в армии сохранялась прежняя, офицеры, командуя людьми, опирались на традиции. Но немец, одетый в форму солдата, вовсе не был автоматом, нуждавшимся только в том, чтобы им управляли. Недавний земледелец или рабочий, служащий или учитель гимназии, владелец лавочки или маслодел, он задумывался все больше. Ему забили голову рассказами о зверствах казаков, французских солдат, торгашей-англичан. А он все чаще задавался вопросом, с какой это радости его гонят под лютый огонь, заставляют лезть на заграждения; с какой радости, если война ведется вовсе не за немецкую землю, а на полях Франции и России!