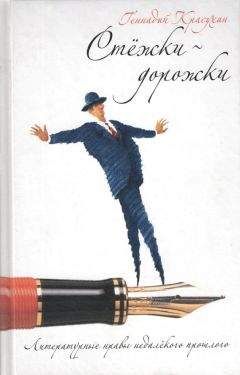Великий русский поэт Борис Слуцкий ещё несколько десятилетий назад в одном из стихотворений очень точно передал собственные ощущения, ощущения еврея, которому довелось родиться в России, жить в сталинском и послесталинском Советском Союзе: «Ношу в себе, как заразу, проклятую эту расу». Чего ему было стесняться, как удивлялся Виктор Черномырдин, чьи слова Саша Бородин вынес в эпиграф своей заметки? Слуцкий не стеснялся, он констатировал факт: для многих людей в нашей стране еврей оказывался существом мерзким, проклятым и проклятым, которого следует презирать и попирать.
Потому и пришлось Саше Никельбергу, внуку врача и сыну ценного специалиста в области монтажа электрооборудования, сменить фамилию на материнскую, хотя, как потом выяснилось, мать долго скрывала, что её отец Николай Дмитриевич Бородин был крупным алтайским промышленником, которого озверелая революционная толпа вместе с другими «классовыми врагами» заперла в трюме баржи, а баржу потопила в середине реки Бии.
Мать скрывала «классовое» происхождение, сыну пришлось скрыть национальное. Знаменитое антисемитское: в России бьют не по паспорту, а по морде – здесь оказалось недействительным. Сашу Никельберга били по паспорту, то есть по фамилии. И перестали бить, когда он предстал перед другими Сашей Бородиным.
Мне это очень близко. Хотя лично меня по паспорту никто не бил – русская моя фамилия была вне подозрений. Никто не бил и по морде: у меня была не такая славянская внешность, как у Саши, но семитских черт своих предков я не унаследовал.
Именно поэтому при мне не стеснялись нести всякую чушь про евреев. Был у нас на заводе радиомонтажник Боря. Казалось, что его просто заклинило на соседях-евреях, с которыми он жил в одной квартире. «Эти жиды.» – начинал он со скорбной или плаксивой гримасой на лице. И дальше непременно следовал отчёт за вчерашний день: что делали его соседи, что говорили, что ели, кого принимали. Всё подлежало Бориному осуждению.
– Варит холодец, – рассказывал Боря про соседку. – И ни тебе морковки, ни укропу. А чесноку бросает в тарелки – будь здоров!
– Что ж, – одобрительно говорил кто-нибудь из моих старших товарищей, – закусон что надо! Под водочку – самое то!
– Под водочку? – переспрашивал Боря. – Кто-нибудь из вас видел, чтобы жиды пили водку?
– Да сколько хочешь, – отвечали ему. – Ты и сам недавно пил на дне рождения Котляра.
Котляр был главным электриком завода.
– Так это я пил! – горячился Боря. – А Котляр нет. Наливать другим наливал, а чтобы самому.
– Ну-ну, – смеялись радиомонтажники. – Не ври! Пил Котляр вместе со всеми!
– Это он вино пил, – не сдавался Боря. – Жиды сладкое любят.
– Да будет тебе, – говорили ему, – Штаркман что – с нами в пивнушке ни разу не был, ерша не пил?
Боря замолкал. Секретарь объединённого комитета комсомола НИИ и завода Игорь Штаркман был большим любителем выпить и часто составлял нам компанию. Не отказывался и от спирта, который мы ему предлагали, когда он к нам заходил.
– Это он по должности, – вдруг сообщал Боря. – Секретарь комитета комсомола! Ходит, вынюхивает своим жидовским носом, кто чем живёт.
– Ага, – иронически соглашались с ним, – такая общественная нагрузка: пить со всеми!
– Точно, – радовался подобной понятливости Боря.
– Ну что ж, – заключал кто-нибудь. – Я бы от такой нагрузки не отказался!
– Да кто ж тебя выберет секретарём? – голос Бори становился визгливо-плаксивым. – По паспорту не подходишь!
– Ты ври да не завирайся, – сурово отвечали ему. – Вера вон, – кивали на единственную в нашем мужском коллективе радиомонтажницу, – секретарь комитета комсомола завода. Подошла по паспорту!
– Да просто противно слушать! – поджимала губы Вера.
– Эх, Верка, – горестно говорил Боря. – Пожила бы ты с моё в одной квартире с жидами.
– Да что ты заладил «жиды» да «жиды», – возмущалась Вера. – Такие же люди, как все!
– Таки-ие? – сардонически протягивал Боря. И издевательски напевал:
Рабинович стрельнул, стрельнул – промахнулся!
И попал немножечко в меня!
Я лежу в больнице. Хавка на свободе.
Рабинович пьян уже три дня!
– Ты хоть понимаешь, что поёшь, – говорили ему. – «Пьян»! А кто только что говорил, что евреи не пьют?
– Так это он вино сладенькое, – надоедливо тянул своё Боря.
В смоленской деревне, где я жил у тётки в детстве, евреев называли «ивреями». «Немец нас не трогал, – рассказывали о жизни в оккупации. – Обложил налогом каждую избу, но всё, как есть, нам оставил. И корову, у кого была, и кур». «Да немцы же выслеживали курицу и бросались на неё», – вспоминал я кадры из какого-то фильма, который здесь же, в деревне, смотрел. «Они не курицу, а ивреев высматривали, – отвечали мне. – Если зайдёт иврей к тебе в избу, а ты им об этом не скажешь, пропала твоя головушка. А если скажешь, тебе и тушёнки дадут, и молока сгущённого, и хлеба. И колбасы в консерве, – здесь говорящий облизывался. – Я такую колбасу никогда больше не ел. Могли и шнапсу налить».
– А с евреями что? – спрашивал я.
– Которых ловили? Выводили из избы и убивали. Вон, – показывали на овраг, – поставят иврея, стрельнут, он вниз и скатится.
– И много людей убили? – интересовался я.
– Которых в избу заходили не так чтоб много. Иврей хитрый. Понял, что в избу заходить не надо, в лесу прятался. Тута его и ловили. А уж если ты его высмотрел, да немцу сказал, – и колбасы даст тебе, и шнапсу, и много чего ещё!
До революции на Смоленщине были еврейские местечки. Евреи жили кучно, ходили в свои школы, молились в синагогах и нисколько не мешали живущим за их границами русским крестьянам, но и не перемешивались с ними. Революция границы размыла. Многие евреи подались в города, но иные остались крестьянствовать, подобно русским соседям. Помню, в годы перестройки некоторые сотрудники «Литературной газеты» удивлялись открывшемуся факту: отец Троцкого был крестьянином! А меня это не удивило. Я знал, что на той же смоленской земле до войны в колхозах было немало евреев. А после войны я их там уже не встречал.
Однажды моему сыну пришло письмо из Израиля. Некто Шмуэль Малкин, профессор химии, интересовался, не родственники ли мы ему. Сын ответил. Завязалась оживлённая переписка. А потом они приехали на какую-то конференцию в Москву – Шмуэль и его жена Нава. Со старыми фотографиями. Оказалось, что мы в троюродном родстве. Мать Шмуэля и его старшего брата, который сейчас живёт в Америке, – родная сестра моего дедушки, её девичья фамилия – Красухина. Она уехала в Палестину, вышла замуж, родила первого сына в 1924-м году, а через десять лет – Шмуэля. Мать говорила с детьми по-русски, но её давно нет на свете, и Шмуэль в разговоре с нами с трудом, но припоминал то, что знал когда-то. Жена его Нава вообще не знает русского. Так что время от времени, приостанавливая беседу, Шмуэль переводил ей наиболее интересные моменты разговора.