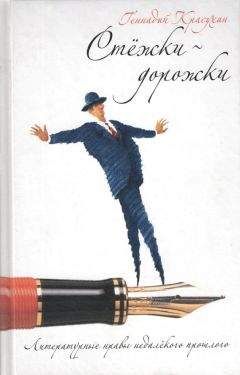Однажды моему сыну пришло письмо из Израиля. Некто Шмуэль Малкин, профессор химии, интересовался, не родственники ли мы ему. Сын ответил. Завязалась оживлённая переписка. А потом они приехали на какую-то конференцию в Москву – Шмуэль и его жена Нава. Со старыми фотографиями. Оказалось, что мы в троюродном родстве. Мать Шмуэля и его старшего брата, который сейчас живёт в Америке, – родная сестра моего дедушки, её девичья фамилия – Красухина. Она уехала в Палестину, вышла замуж, родила первого сына в 1924-м году, а через десять лет – Шмуэля. Мать говорила с детьми по-русски, но её давно нет на свете, и Шмуэль в разговоре с нами с трудом, но припоминал то, что знал когда-то. Жена его Нава вообще не знает русского. Так что время от времени, приостанавливая беседу, Шмуэль переводил ей наиболее интересные моменты разговора.
Расставаясь, договорились, что Шмуэль пришлёт нам ксерокопии хранящихся у него писем наших родственников к его матери.
И вот они передо мной – письма из СССР людей, которых давно уже нет на свете. Читаю и слышу, как сказал поэт, «мертвецов голоса». Молодые мои тёти, дядя, их двоюродные братья, племянники, многих из которых я никогда не видел, не знал.
Год 1930-й, 32-й, 34-й, 35-й. Искренний пафос созидания: «Ты даже представить себе не можешь, какую жизнь мы здесь строим!», неподдельное сожаление: «Жалко, что ты не с нами, ты бы обязательно подключилась к строительству самого справедливого общества на земле». А какова гордость за неизвестного мне Жорика: «Блестяще сдал экзамены на вождение и теперь работает трактористом-механизатором. Как ты думаешь, сколько он получает? 65 рублей!» «Я учу детей математике, – пишет тётя, получившая диплом и вернувшаяся в деревню. – Это такая радость – оказаться нужной нашей Родине, готовить для неё образованных специалистов». «Нет, я пока что не вступил в партию, – это дядя, – но по убеждению я – беспартийный большевик». «Порадуйся вместе с нами, – неизвестный мне родственник, – Мирон награждён Почётной Грамотой!»
А в 1939-м году муж той самой тёти, сельской учительницы математики, вышел из тюрьмы, куда был брошен в 37-м. Попал в число узников Ежова, отпущенных Берией на свободу. Вышел с вырванными ногтями и ресницами и повреждёнными веками – палачи своё дело сделали. Ногти восстановились, а ресницы с веками – нет. Так что когда я, маленький, спавший в одной комнате с дядей, просыпался раньше него, мне представлялась страшная картина: дядя лежал, спокойно дыша во сне и смотря на меня не сомкнутыми глазами. Так он спал, закатив зрачки.
Но переписка обрывается на 35-м годе. И возобновляется в 45-м, в декабре. Точнее, она в нём заканчивается. Послано только одно письмо со скорбными, плачущими, воющими интонациями: «Мы вернулись из эвакуации, и нас никто не встретил. Родная, никого больше нет. Пять двоюродных сестёр бабушки и дедушки, Мирон, ещё шесть человек расстреляны немцами. Изя и Жорик погибли на фронте». Не привожу мартиролога потому, что большинства расстрелянных я не знаю. Знаю только, что за их поимку немцы награждали людей консервами с необыкновенно вкусной колбасой.
В апреле 1968-го года я поехал в гостиницу «Россия» к остановившемуся там смоленскому поэту Николаю Рыленкову. Дело шло о какой-то его статье: что-то в ней не удовлетворило начальство «Литгазеты», и я её сильно переписал. Теперь требовалось согласие автора, который выразил желание прочитать гранки, но сказал, что слегка простужен, приехать не может и лучше, если я приеду к нему с лекарством.
– С каким лекарством? – не понял я. Рыленков хмыкнул:
– Плачу я. Просто не хочется переплачивать: в ресторане оно стоит дороже.
Я понял.
Явился к нему с двумя бутылками водки. Но на стол поставил только одну: поэт явно уже был разогрет.
Гранки Рыленков подписал, не читая, попытался вручить мне деньги за водку, я их брать отказывался.
– Ну тогда, – сказал поэт, – купите на эти деньги закуски в буфете на этаже. Посмотрите, что там есть. Бутерброды с колбаской, может, салатик, селёдочка. Для вас это не слишком обременительно?
Для меня это было не обременительно. По пути к Рыленкову я заметил буфет в коридоре и понимал, что он недалеко. Он оказался ещё и совершенно пустым – ни одного человека. Буфетчица помогла мне установить тарелки на поднос, и я отправился назад. Балансируя подносом, я открыл дверь номера, поставил тарелки на журнальный столик и получил весьма церемонное приглашение поэта разделить с ним трапезу.
– И я почитаю вам стихи, – сказал он.
Это обещание меня не обрадовало. Но Рыленков отнёсся к нему со всей серьёзностью. Не успели мы выпить по первому полстакана, как поэт, прожевав взятый с бутерброда кусок колбасы, сказал: «Ну, начинаю!» И поднял с дивана лежащие на нём листки бумаги.
По правде сказать, я вообще не люблю слушать стихи. Из-за слабого слуха я доверяю больше своим глазам, а не ушам. А если стихи мне не нравятся, я вообще их слушаю вполуха, не слишком вникая в смысл.
Рыленков читал, а я думал о своём. Точнее, о нём, о Рыленкове. Сказывался полстакана водки, которую я успел закусить небольшим ломтиком селёдки. Обычно чем больше я выпиваю, тем глубже проникаюсь симпатией к собутыльникам. Жалко мне стало немолодого поэта. «Сколько стихов написал, – думал я. – А останется от них для потомства хотя бы строчка?»
Мерное, ритмичное чтение внезапно оборвалось.
– Как? – спросил Рыленков.
– Здорово! – соврал я.
– Звукопись на «д» и на «т» – это же движение и в то же время отстаивание своей правоты. Оценили?
Конечно, нет. Я никакой звукописи не уловил.
– Ещё бы! – сказал я поэту.
Разливая водку, он, улыбаясь, сообщил: «Да! Мне многие так и говорили: «Коля! Твардовский от зависти руки себе изгрызёт! Ты здесь стоишь вровень с Исаковским!»».
– А можно посмотреть глазами? – спросил я, заедая водку бутербродом.
– Конечно, – великодушно разрешил Рыленков, явно истолковав мою просьбу как лишнее свидетельство восхищения.
Как я и думал, рыленковские знакомые привирали: стихи не дотягивали до Исаковского, не то что до Твардовского. Грамотные, старательные, без какого-либо отпечатка личности автора.
– Ну как? – спросил меня Рыленков. И снова налил.
– Да! – изобразил восторг я и вспомнил рыленковских знакомых.
Не успели мы закусить очередную порцию, как в дверь постучали.
– Это Женя, – сказал, поднимаясь со стула, Рыленков, – входи, дорогой!
В комнате появился литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Вопросы литературы» Евгений Иванович Осетров. Рыленков с ним крепко расцеловался.
– Знакомься, – сказал он ему.
– Кто же не знает Красухина? – заулыбался Осетров, пожимая мне руку. – Что-нибудь печатаешь в «Литгазете»? – спросил он хозяина.