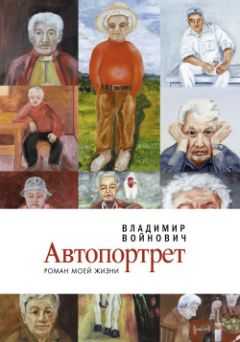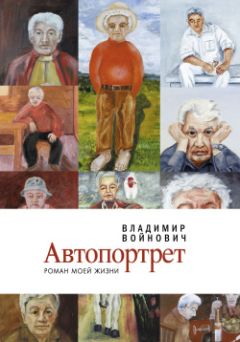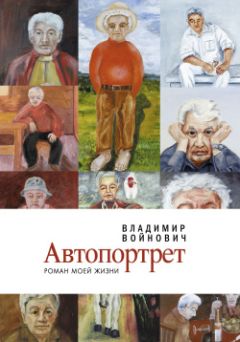Неуместные претензии
К писателю Битову я никогда особого интереса не проявлял, но все-таки о его человеческих качествах был более высокого мнения, пока наше знакомство было относительно шапочным. Хотя отдельные подробности его поведения меня удивляли давно. В 1979 году он был одним из создателей альманаха «Метрополь» и в качестве такового участвовал в привлечении к нему авторов. О тех, кто не поддался на его уговоры, он отзывался с презрением. Собравшись вместе, авторы поклялись стоять друг за друга и обещали, что в случае исключения из Союза писателей хотя бы одного остальные покинут организацию в знак протеста. Попова и Ерофеева исключили. Аксенов, Липкин, Лиснянская сделали, как обещали. Искандер сказал, что он не партизан, и в Союзе остался. Белла Ахмадулина, оставшись, решила заменить выход из Союза другим серьезным поступком и выступила в защиту сосланного в Горький Сахарова, после чего ее несколько лет не печатали. Бездарней других повел себя Битов. «В жизни, — сказал он, — бывают случаи, когда человек имеет право отказаться от своего слова». Поступок жалкий, объяснение бездарное, но понять было можно: выход из Союза требовал того, что называется мужеством. Ну, не оказалось его у человека, ничего не поделаешь. Но когда во времена перестройки он, пытаясь угодить новой власти, стал делать постыдные заявления об эмигрантах (с некоторыми вроде Алешковского охотно общаясь), которые отстали от него на много лет, врать о наступлении полной свободы в литературе и делать вид, что другой литературы, кроме него и Приставкина, вообще больше не существует, он стал вызывать во мне удивление, постепенно переходившее в более негативное чувство.
В 1987 году группа писателейперестройщиков была приглашена Баварской академией изящных искусств в Мюнхен. Список приглашенных составляли мы с Ирой и одним из первых вставили в него Битова. Кроме него гостями академии стали Приставкин, Вознесенский, Ахмадулина и Мессерер в качестве мужа. Все, естественно, выступали. Каждого представлял ктото из академиков. Я представлял Приставкина.
Я держал речь по-немецки, Приставкин внимательно слушал, приклеив ухо к губам шептавшего ему переводчика. Затем Приставкин читал какойто отрывок из своей прозы, Вознесенский — стихи. Белла, пролежав несколько дней в больнице, выступала последней и, кроме прочего, прочла стихотворение, посвященное мне. Битов выступил с сообщением, которое я уже дважды слушал в НьюЙорке. О странном эффекте гласности: рукописи копились много лет, а вот напечатаны все в одночасье, и больше печатать нечего. Потом был банкет. Участники выступали с тостами и речами. Выступил и я.
Не называя Битова, я сказал: «Нехорошо говорить, что все уже напечатано и больше печатать нечего. Есть еще коечто. Еще есть целая группа писателей, которая находится на Западе и до которой очередь не дошла. Никого еще не напечатали — ни меня, ни Аксенова, ни Владимова, не говоря уже о Солженицыне. Издали только умерших писателей — Булгакова, Платонова. А о том, чтобы издать нас, даже и речи не было».
Битов понял, что это камень в его огород, поднялся и стал бурчать, что нельзя бороться с тоталитаризмом тоталитарными методами. На что я ему сказал, что с тоталитаризмом только тоталитарными методами и можно бороться, потому что других он не понимает. Но мое выступление тут ни при чем, оно не является фактом борьбы с тоталитаризмом и не тоталитарно само по себе. Некоторые немцы тоже были мной недовольны, что я таких уважаемых гостей ставлю в неловкое положение.
Они совсем не могли понять, в чем дело. Сижу в Мюнхене, заседаю в академии, чего еще нужно? Если мои соотечественники не понимают, чего я хочу, то немцам и вовсе непонятно. Им кажутся неуместными мои претензии на то, что я к российским делам тоже могу и считаю себя вправе быть причастным.
Приставкина я пригласил к себе домой, и у нас за водкой с пельменями, купленными в русском магазине, состоялся разговор, который передаю почти дословно.
— Обожаю пельмени, — сказал Толя. — Хотя мне это совершенно не нужно. Разжирел. Врач говорит: нужно держать диету, и самую строгую. А я не могу. Люблю пожрать, и ничего не поделаешь. А здесь бы я вообще помер. У вас тут такие колбасы, такие сыры. Ты уже, конечно, не вернешься? — вывел он свой вопрос прямо из гастрономии.
Я занервничал. Эта песнь о несъеденной колбасе мне изрядно уже надоела. И я попытался объяснить Анатолию, что в моем теле, кроме желудка, входа в него и выхода, размещены еще всякие органы и железы, которые вырабатывают мысли, желания, сомнения, радости, печали, любовь к ближнему, детям, животным, природе и родине. И надежду на то, что я обязательно вернусь на свою родину, буду там жить, писать, печататься, любоваться березками и топить печку березовыми дровами.
— А поскольку ты, — сказал я ему, — такой влиятельный сейчас человек, вот и поспособствуй тому, чтобы это случилось.
— Чему поспособствовать? — спросил он.
— Моему возвращению.
— Но ты же не хочешь.
— Кто тебе это сказал?
— Ты.
— Я тебе этого не говорил.
— Старик, — сказал он, кладя на тарелку недожеванный пельмень, — ты только что сказал, что ты отсюда не уедешь, потому что здесь такая колбаса, такие сыры…
Я пытался говорить с ним медленно и рассудительно, как с душевнобольным.
— Слушай, про колбасу говорил ты, а не я. Я сказал чтото прямо противоположное. Я сказал, что хочу вернуться.
— А зачем? Зачем? — никак он не мог понять. — Ты там жить все равно не сможешь. Ты можешь обижаться, когда говорят про колбасу, но я тебе скажу, это правда, человеку, привыкшему к здешней пище…
— Я не привык, — перебил я его. — Я не ем колбасу. Мое любимое блюдо: картошка с постным маслом и с луком.
— Где ты ее возьмешь? — сказал он и в волнении укусил салфетку. — Картошки на рынке нет, а в магазинах только гнилая. Капуста отравлена пестицидами. Морковь — гербицидами. Помидоры — нитратами. А постного масла днем с огнем не сыщешь. В магазинах пусто. Негде купить штаны. Запчастей для машины не найдешь. Сковородку я везу отсюда. Электролампочки не достанешь. Телевизоры горят. Мясо тухлое. В больницах больных заражают СПИДом. Дети в Чернобыле рождаются с двумя головами.
Я пытался ему возразить:
— Не пугай. Некоторые одноголовые еще как-то живут, и голода, слава богу, нет.
— Есть, есть голод! — закричал он. — Жрать совершенно нечего.
Тогда я, не удержавшись, съехидил:
— А как ты борешься с лишним весом?
Он не уловил ехидства в моем вопросе и чуть не заплакал, говоря, что с лишним весом никак не борется, потому что в диетических магазинах так же пусто, как во всех других. Но под конец, забыв все предыдущее, пообещал: