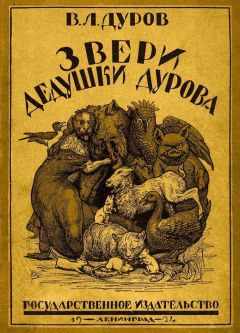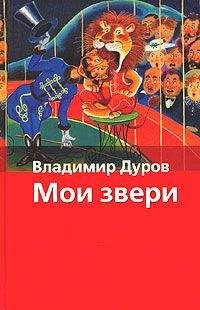Совет его и отличное общество офицеров, вместе со мною остающихся, помогли мне видеть с меньшим сожалением отъезд наших храбрых гусар за границу; случай сделал, что и любезнейшая из полковых дам осталась здесь же. Я хотя и убегаю женщин, но только не жен и дочерей моих однополчан; их я очень люблю; это прекраснейшие существа в мире! Всегда добры, всегда обязательны, живы, смелы, веселы, любят ездить верхом, гулять, смеяться, танцевать! Нет причуд, нет капризов. О, женщины полковые совсем не то, что женщины всех других состояний! С теми я добровольно и четверти часа не пробыла бы вместе. Правда, что и мои однополчанки не пропускают случая приводить меня в краску, называя в шутку: гусар-девка! Но, будучи всегда с ними, привыкаю к этому названию и иногда столько осмеливаюсь, что спрашиваю у них: «Что вы находите во мне сходного с девкою?» – «Тонкий стан, – отвечают они, – маленькие ноги и румянец, какой каждая из нас охотно желала бы иметь; поэтому мы и называем вас гусаром-девицею и – с позволения вашего – несколько и подозреваем, не по справедливости ли даем вам это название!» Слыша почти каждый день подобные шутки, я так привыкла к ним, что никогда уже почти не прихожу в замешательство.
Мы стоим на границах Галиции в местечке Колодно; здесь сухая граница, и обязанность наша делать разъезды и иметь надзор над исправностью казачьего кордона. Колодно принадлежит Швейковскому; у него красавица жена, воспитанная в Париже. Большая каштановая аллея, темная как ночь, ведет от крыльца помещичьего дома к небольшому беленькому домику, обсаженному кругом липами. В этом домике живет эконом с доброю женою и двумя веселыми, резвыми, милыми дочерьми; в этом домике все мы бываем каждый день. Я замечаю, что товарищи мои сидят здесь долее, нежели у гордой и прекрасной Швейковской.
Офицер Вонтробка рассказывал, что в одну из своих прогулок верхом за границу встретился он и познакомился с бароном Чехович, и говорил, что баронесса имеет такую восхитительную красоту, какой никогда еще не представляло ему и самое воображение; но что, к счастью всех знакомых ей мужчин, ограниченный ум и недостаток скромности служат сильным противоядием гибельному действию зараз ее и что, при всей очаровательности ее неописанной красоты, никто не влюблен в нее, потому что слова и поступки ее уничтожают в одну минуту впечатление, произведенное ее небесною наружностью.
Близ границ наших завелась проклятая рухавка; так называют поляки свое ополчение, или, лучше сказать, толпу всякого сброду: все это оборванное, босое, голодное скопище вздумало еще прославлять свой подвиг, довольство и свободу!
К стыду бравых мариупольцев, некоторые из них обольстились этим враньем и убежали, чтоб вступить в отвратительную рухавку. Станкович очень оскорбился таким неслыханным поступком гусар и послал Вонтробку и меня с целым взводом отыскать, если можно, наших беглецов, взять их силою и привесть обратно в эскадрон. Вонтробка принялся за выполнение этого поручения, так что выезд наш для поисков походил более на вылазку против неприятеля, нежели на простой розыск.
Мы переехали границу и в полуверсте от местечка *** остановились, сошли с лошадей и чего-то дожидались – я не знаю. Вонтробка старший; он командует и распоряжает, а для чего я тут же, право, не понимаю! Станкович все делает с каким-то излишним триумфом. Мы стояли безмолвно! Я легла на траву и смотрела на блестящее созвездие Большой Медведицы. Она припомнила мне веселое время ночных прогулок моих в детских летах. Как часто, дав волю моему Алкиду и не заботясь о его дороге, я, опершись обеими руками на холку его и закинув голову вверх, по целой четверти часа рассматривала эти прекрасные семь звезд!
Погрузившись всей душою в воспоминания, я была попеременно то двенадцатилетним ребенком на хребте своего Алкида, то коннопольцем, то середи густых лесов Сибири, то на полях Гейльзберга, то на могиле твоей, о конь мой незабвенный!.. Сколько времени! сколько происшествий! сколько перемен с того времени! Но вот я опять вижу тебя, мое любимое созвездие! Оно все то же, так же блистательно, те же семь звезд; на том же месте! Одним словом: оно все то же… а я!..
Пройдут годы, пройдут десятки годов, оно будет все то же; но я!.. Мысль моя перенеслась в будущность через шестьдесят лет вперед, и я с испугом встала… Кивер! Сабля! Рьяный конь!.. восемьдесят лет! «Аргентий, едем, ради Бога, едем! Чего мы тут стоим?..» Я села на лошадь и стала делать вольты в галоп. Неприятные мысли кружились вместе со мною. «Что тебе за охота мучить лошадь?» – спросил Вонтробка. «Для чего ж мы тут стоим по-пустому!» – «Как по-пустому! Я знаю время, когда надобно въехать в местечко… Ну, вот теперь пора… Садись!.. Справа по три! Марш!..»
Мечты исчезли, я возвратилась к существенности; мы сели на лошадей и отправились к местечку; въехали таинственно, без шуму, с предосторожностями вытянули фронт против стен какого-то кляштора, и Вонтробка послал унтер-офицера и четырех гусар в этот кляштор искать беглецов наших. Разумеется, посланные возвратились ни с чем, потому что кляштор был кругом заперт.
На рассвете Вонтробка, оставив людей, поехал вместе со мною к коменданту этого местечка полковнику N***, который был также и командир рухавки. Полковник этот был уже знаком Вонтробке прежде, но я видела его в первый раз. Он принял нас смущенно и торопливо; просил садиться; извинялся, что не одет, и тотчас ушел в другую горницу, говоря, что сию минуту воротится. Вонтробке показался такой прием подозрительным, и он сказал мне, что надобно тотчас уехать; и так, не дождавшись хозяина, мы вышли из комнаты, присоединились к своим людям и уехали!
Я находила поступок Вонтробки странным и спрашивала его, для чего он это сделал? Он сказал, что заметил в коменданте враждебные намерения. «Да что ж он мог нам сделать? ведь у нас целый взвод гусар». – «Вот прекрасно! целый взвод! а зачем мы здесь? Мы не могли бы сказать в оправдание, что ездили отыскивать бежавших гусар и хотели взять их, если найдем, вооруженною рукою; это делалось секретно; это хозяйственное распоряжение эскадронного командира, извинительное в таких случаях. Ведь неприятно рапортовать, что столько-то гусар бежало за границу».
Неудачность покушений наших не остановила Станковича. Он послал меня в Тарнополь к князю Вадбольскому с письмом и поручением привесть беглых гусар, если мне их отдадут. Мне надобно было проезжать через это самое местечко, где мы делали наш ночной обыск; у заставы спросили, есть ли у меня билет от их полковника? «Нет!» – «Вас нельзя пропустить; достаньте билет…»
Я послала гусара к полковнику просить билета; полковник велел просить меня, чтобы я пришла за билетом сама. Я пошла. «Вы должны б были лучше знать свою обязанность, господин офицер, – сказал поляк, нахмурясь. – К начальнику надобно являться самому, а не посылать рядового… – Говоря это, он наскоро подписывал билет. – Приехали с вооруженными людьми, обыскивали кляштор, пришли ко мне, и, когда я вышел на одну минуту, только приказать подать кофе, вы уехали, как будто из разбойничьего вертепа! Как странно так поступать русскому офицеру!..» И все это я должна была слушать.