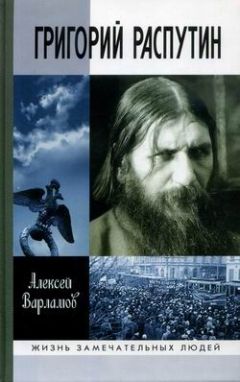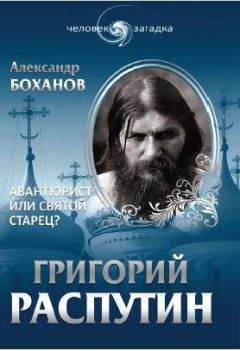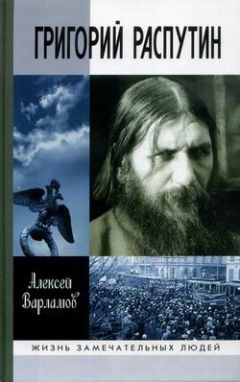В Екатеринбурге журналист вышел. Он быстро написал статью и с почтовым проводником передал в Петербург. Статья была напечатана, когда Распутин находился в Покровском.
Александр Иванович, опубликовавший репортаж о поездке Распутина в газете «День», был уверен, что телеграмма, полученная Распутиным в дороге на крохотной замусоренной станции, была послана царицей. Либо фрейлиной Вырубовой от имени царицы.
Иначе чего скрывать своё лицо и не ставить подписи?
Пуришкевичу, который не любил царицу так же, как и Распутина, принадлежат следующие слова: «Немецкая принцесса, английского воспитания на русском троне, впавшая в мужицкую хлыстовщину пополам со спиритизмом в общей истории русского мистицизма, столь странно и оригинально, казалось бы, смешавшая в себе совершенно не смесимые основные элементы от курной избы до английской школы, не оригинальна. Это г-жа Крюденер или г-жа Татаринова, взобравшаяся на трон[22]».
Железную дорогу, угольный паровозный дымок, врывающийся в окно, колыхание шёлковых занавесок, сладковатый дух, исходящий от кожаных чемоданов, гуденье станционных колоколов и картошку с груздями, которыми славились уральские и сибирские станции, любит не только Распутин, любила и охранка, её «филёров летучий отряд».
В дневниках «гороховых пальто» материалы по всем поездкам были аккуратно подобраны, подшиты, скреплены, пронумерованы, прослюнявлены, разложены по числам — ничего не потеряно, ничего не упущено.
Иногда Распутин замечал филёра — глаз у него был охотничий: мигом отстреливал в толпе — «старец» не уступал в этом деле филёрам, — останавливался и тыкал в него пальцем, словно пистолетом:
— Ты чего за мной ходишь? А?
Опешивший филёр, как правило, отворачивал лицо в сторону.
— Вас охраняю-с!
— Зачем-с?
— А как бы чего не вышло!
Вели дневник, слали в Питер телеграммы и записки филёры и на этот раз, в поезде. Они следовали за Распутиным по пятам и на каждой остановке наведывались в железнодорожный телеграф.
В Тюмень поезд пришёл утром. Здесь было по-южному жарко, сухо, солнце игриво золотило купола тюменских церквей. Распутин вышел со своей свитой на перрон. Было шумно.
Два агента столичного охранного отделения, сопровождавшие Распутина в поезде, передали своего «седока» агентам, ждавшим их здесь, и взяли билеты обратно. В столицу была отправлена специальная телеграмма. Вместе с агентами в Петербург возвращался и Попыхач — обиженный, в жёлтых ботинках, с жёлтым кожаным баулом в руке.
— Поезжай, поезжай назад, милый, — ласково втолковывал ему Распутин.
— Ну хоть на денёк остаться разрешите, Григорий Ефимович! Отдохнуть надо!
— В дороге отдохнёшь, милый!
— Ну хоть дыхание перевести... На один день!
— За один день в Тюмени ты столько девок перепортишь, что потом год придётся разбираться. Поезжай, милый, не упрямься. Проводил — и довольно.
— Значит, больше я вам не нужен, Григорий Ефимыч?
— Ты мне всегда нужен, — Что-то дрогнуло в лице Распутина, он, похоже, заколебался, потом махнул рукой: — Поезжай!
В Тюмени Распутин пробыл недолго — отправился в Покровское. Он скучал по Покровскому — старому селу, которое постороннему человеку не всегда было мило, часто пугало своей угрюмостью, а Распутину было дорого, мило, как никакое другое — у него светлело и вытягивалось лицо, глаза молодели, меняли свой цвет, грудь сжимало, а в горле собирались слёзы, когда он подъезжал к Покровскому. Покровское — это его село, на Покровское он был готов променять и Петербург со всеми его радостями, и Москву, пахнущую свежими баранками, и Ялту с её морем и изумительным вином, в Покровском он познал жизнь, истины, после которых всё ему стало казаться мелким, здесь он обрёл свою память — все святые, что были в мире, сейчас стучались в его сердце.
А Тюмень одолели дожди, и лишь сегодня, в честь приезда Распутина, выглянуло солнце, а так один дождь кончался, другой начинался — лило беспрерывно, земля пропиталась влагой, раскисла, реки вздулись, стали опасными, даже самые мелкие речонки переполнились мутной водой и пенно громыхали, тащили муть, камни и вывернутые кусты. Счёт утопленников только в одном городе Тюмени перевалил за семьдесят человек. В канавах валялись захлебнувшиеся собаки, в кустах висели запутавшиеся мёртвые птицы.
— Ах вы, голубушки мои быстрокрылые, — изменившимся голосом пробормотал Распутин, увидев двух дохлых галок с раззявленными клювами, — эко вас природа! Спрятались от дождя, а вас и накрыло. — Он сплюнул в тёмную маслянистую воду протоки. — Пошто к человеку под крышу не пошли? К человеку надо идти!
Отзываясь на шаги, в траве, в блёклой ряске, в лужах гулко лопались пузыри.
— Это водяные поднимают голос...
Странная, почти неведомая печаль поселилась в Распутине, он размягчённо тёр пальцами мокрые виски, стряхивая с них пот, удивлялся всему, что видел.
— А тут и вовсе редкостная птица есть, вещая, — говорил он бессвязно, перескакивая с одного на другое, — щур называется. От взгляда умирает, не выдерживает грешного человеческого взора, такая святая птица!
Женщины двигались за ним гурьбой, громко охали, подбирали юбки, смело лезли в грязь и вопросов не задавали — они верили Распутину. Если взглянуть со стороны — ни дать ни взять экскурсовод движется, рукою тычет влево, вправо, купеческие достопримечательности показывает, объясняет, что к чему. Впрочем, когда у Распутина спросили, знает ли он такое слово «экскурсовод», в ответ прозвучало: «Нет».
— Даже никогда не слышал, — добавил он, подумав.
Остановившись, Распутин оглядел свою свиту и сказал:
— Про эти места я могу рассказывать много, вот тут всё это, — он больно постучал себя кулаком по груди, стараясь бить в то место, где было сердце, это заметила полная тридцатилетняя красавица, кинулась к Распутину:
— Отец Григорий! По сердцу бить опасно!
— Ничего, ничего, у меня сердце крепкое. — Распутин не боялся за своё сердце, снова стукнул по нему, сильнее, чем в прошлый раз. — Бью как хочу. Я вот о чём желаю спросить, бабоньки... — В Тюмени он мог произнести любое слово, не только безобидное «бабоньки», он не стеснялся в выражениях, считая, что постыдной речи нет, в общении между людьми всё годится, всякие слова. — В Покровское как поедем, землёй или водой?
— Непонятно что-то, отец Григорий...
— Землёй — это, значит, по суше, на тарантасе, по грязи, а водой — на пароходе. Как поедем?
— Сами-то, отец Григорий, как предпочитаете?