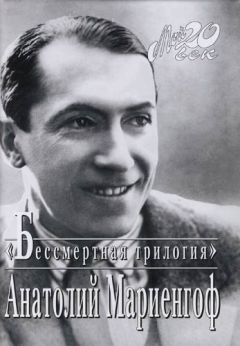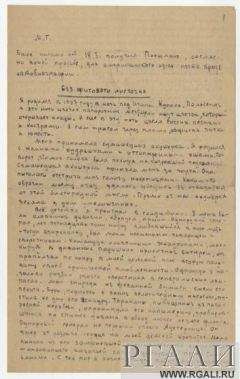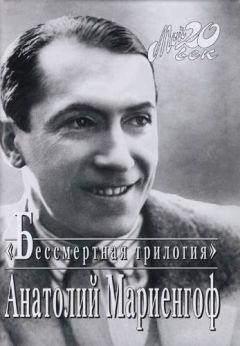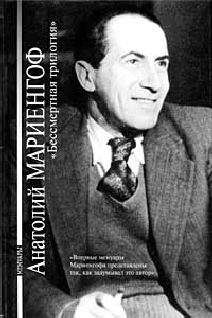Хотя, по совести говоря, плоховато я верил и в редакторское широкодушие, и в родственные карманы.
Впрочем, и родичей-то у меня (кроме сестры) почти что нет на белом свете. Самые кровные узы, если, скажем, бабушки наши на одном солнышке чулочки сушили. Так, кажется, говаривали старые хорошие писатели.
Вдруг: телеграфный перевод на сто рублей. И сразу вся кислятина из души выпарилась. Решили даже еще недельку поболакаться в море.
За обедом ломали головы: от кого бы такая благодать?
А вечером почтальон догадку вручил нам под расписку.
Телеграмма: «Приехал Приезжай Есенин».
Ошалев, заскакал я и захлопал в ладоши.
Из желтого кожаного несессерчика бросил в меня стыдящий взгляд шестинедельный Кирилл: «Такой, мод, дядя здоровый и козлом прыгаешь!»
Усовестясь, я помахал пальцем перед его розовенькой, с двумя дырочками горошинкой:
— Ну, брат-Кирилл, в Москву едем… Из невозможных америк друг мой единственный вернулся… Понимаешь?
Розовенькая горошина сморщилась и чихнула.
— Значит, правда!
Наутро Кирилл сменил квартиру — кожаный несессерчик на деревянное корытце — и в скором поезде поехал в Москву.
— Вот и я.
— Вяточка!..
Ах, какой европеец! Какой чудесный, какой замечательный европеец! Смотрите-ка: из кармашка мягкого серого пиджака торчит даже блестящий хвостик вечного пера.
И, кажется, еще легче стала походка в важных белых туфлях, и еще золотистей волосы из-под полей такой красивой и добротной (цвета кофе на молоке) шляпы.
Только вот глаза… не пойму… странно — не его.
— Мразь!
— А?
— Европа — мразь.
— Мразь?
— А в Чикаго до надземной дороги встань на цыпочки и пальцем достанешь!.. Ерунда!..
И презрительно приподнялся на белых носках своих важных туфель.
— …в Венеции архитектура ничего себе… только воня-я-ет! — И сморщил нос пресмешным образом. — А в Нью-Йорке мне больше всего понравилась обезьяна у одного банкира… Стерва, в шелковой пижаме ходит, сигары курит и к горничной пристает… а в Париже… сижу это в кабаке… подходит гарсон… говорит: «Вы вот, Есенин, здесь кушать изволите, а мы, гвардейские офицеры, с салфеткой под мышкой…» — «Вы, спрашиваю, лакеями?…» — «Да! лакеями!..» — «Тогда извольте, говорю, подать мне шампань и не разговаривать!..» Вот!.. ну, твои стихи перевел… свою книгу на французском выпустил… только зря все это… никому там поэзия не нужна… А с Изадорой — адьо!..
— «Давай мне мое белье»?
— Нет, адьо безвозвратно… безвозвратно… я русский… а она… но… могу… знаешь, когда границу перс ехал — плакал… землю целовал… как рязанская баба… стихи прочесть?…
Прочел всю «Москву Кабацкую» и «Черного человека».
Я сказал:
— «Москва Кабацкая» — прекрасно. Такой лирической силы и такого трагизма у тебя еще в стихах не было… умудрился форму цыганского романса возвысить до большого, очень большого искусства. А «Черный человек» плохо… совсем плохо… никуда не годится.
— А Горький плакал… я ему «Черного человека» читал… слезами плакал…
— Не знаю…
Есенин не вытаскивал для печати и не читал «Черного человека» вплоть до последних дней. Насколько мне помнится, поправки внес не очень значительные. Вечером были в каком-то богемном кабаке на Никитской — не то «Бродячая собака», не то «Странствующий энтузиаст».
Есенин опьянел после первого стакана вина. Тяжело и мрачно скандалил: кого-то ударил, матерщинил, бил посуду, ронял столы, рвал и расшвыривал червонцы. Смотрел на меня мутными невидящими глазами и не узнавал. Одно слово доходило до его сознания: Кириллка.
Никритина говорила:
— Сережа, Кириллка вас испугается… не надо пить… он маленький… к нему нельзя прийти таким…
И Есенин на минутку тишал.
То же магическое слово увело его из кабака.
На извозчике на полпути к дому Есенин уронил мне на плечо голову, как не свою, как ненужную, как холодный костяной шар.
А в комнату на Богословском, при помощи чужого, незнакомого человека, я внес тяжелое, ломкое, непослушное тело. Из-под упавших мертвенно-землистых век сверкали закатившиеся белки. На губах слюна. Будто только что жадно и неряшливо ел пирожное и перепачкал рот сладким, липким кремом. А щеки и лоб совершенно белые. Как лист ватмана.
Вот день — первой встречи. Утро и ночь. Я вспомнил поэму о «Черном человеке». Стало страшно.
Может быть, не попусту плакал над ней Горький.
На другой день Есенин перевез на Богословский свои американские шкафы-чемоданы. Крепкие, желтые, стянутые обручами; с полочками, ящичками и вешалочками внутри. Негры при разгрузках и погрузках с ними не очень церемонятся — швыряют на цемент и асфальт чуть ли не со второго этажа.
В чемоданах — дюжина пиджаков, шелковое белье, смокинг, цилиндр, шляпы, фрачная накидка.
У Есенина страх — кажется ему, что его всякий или обкрадывает, или хочет обокрасть.
Несколько раз на дню проверяет чемоданные запоры. Когда уходит, таинственно шепчет мне на ухо:
— Стереги, Толя!.. в комнату — ни-ни! никого!.. знаю я их — с гвоздем в кармане ходят…
На поэтах, приятелях и знакомых мерещатся ему свои носки, галстуки. При встрече обнюхивает — не его ли духами пахнет.
Это не дурь и не скупость.
Я помню первую ночь, пену на губах похожую на сладкий крем, чужие глаза на близком, милом лице и то — как рвал он и расшвыривал червонцы…
Раньше бывало по-иначему
Как-то Мейерхольд с Райх были у нас на блинах. Пили с блинами водку. Есенин больше других. Под конец стал шуметь и швырять со звоном на пол посуду. Я тихонько шепнул ему на ухо.
— Брось, Сережа, посуды у нас кот наплакал, а ты еще кокаешь.
Он тайком от Мейерхольда хитро подмигнул мне, успокоительно повел головой и пальцем указал на валяющуюся на полу неразбитую тарелку.
Дело обстояло просто. На столе среди фарфорового сервизишки была одна эмалированная тарелка. Ее-то он и швырял об пол, производя звон и треск; затем ловко незаметно поднимал и швырял заново.
Или еще:
Наш беленький туркестанский вагон стоял в тупике ростовского вокзала. Есенин во хмелю вернулся из города. Стал буянить. Проводник высунулся и заявил:
— Товарищ Молабух мне приказал вас Сергей Александрович, в энтом виде в вагон не пущать!
— Меня?… не пускать?…
— Не приказано-с, Сергей Александрович!
— Пусти лучше!
— Не приказано.
— Скажи своему «енералу» в подбрючниках — ежели не пустит — разнесу его хижину!
— Не приказано