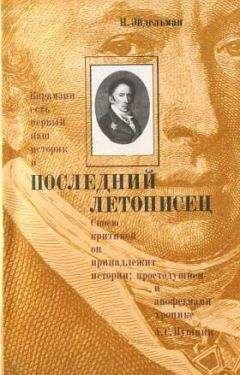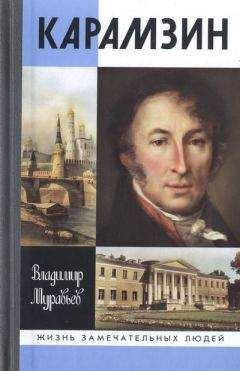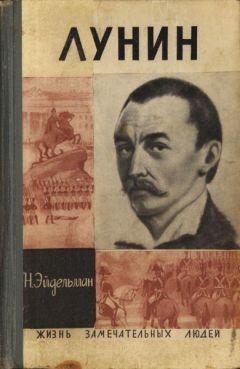К 11 марта — Карамзин получил еще 600 заказов сверх проданного тиража.
Начало апреля — Николай Тургенев сообщает, что экземпляры Истории продаются по двойной цене.
7 апреля — договор с книгопродавцем Олениным на второе издание.
8 июня — объявление о начале печатания второго „исправленного“ издания. Газеты извещают о готовящемся переводе на французский, немецкий, итальянский…
Пушкин: „Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили“.
„Все…“
Петербургская цена была по 50 рублей за восемь томов в обыкновенном переплете, в Москве продавали за 58, в провинции и того дороже — цена обычная и немалая. Если бы грамотный мужик-середняк пожелал приобрести Историю, она обошлась бы ему примерно в два годовых оброка.
Понятно, простых читателей совсем немного. Больше всего покупает Петербург — литераторы, чиновники, военные, придворные… И все же нашлись покупатели и среди „податных сословий“. Такие люди очень интересовали историка, надеявшегося на будущую российскую образованность. Он не забывает, в нескольких письмах упоминает бурмистра одной из деревень Вяземского, который просит у своего барина „гостинца“ — Историю Карамзина. „Я писал для русских, — восклицает автор, — для купцов ростовских, для владельцев калмыцких, для крестьян Шереметева (см. имена пренумерантов в восьмом томе)“. Ученик Пензенского духовного училища Иринарх Введенский, будущий заметный деятель 1840-х годов, пишет отцу-священнику: „Тятенька, не посылай мне лепешек, а пришли еще Карамзина; я буду читать его по ночам и зато буду хорошо учиться“.
Провинция сразу подписалась на 400 экземпляров — из них пятьдесят запросил далекий Иркутск, чего Карамзин совсем не ожидал; но возможно ли разглядеть из столицы восточносибирское просвещение? „Вообразите, — замечает историк, — что в числе сибирских субскрибентов [подписчиков] были крестьяне и солдаты отставные!“ Москва же, любезная Москва „никак не проснется“: автор Истории дает неожиданное, весьма остроумное объяснение: „Я не дивлюсь, что в Москве и Ир
кутске разошлось равное число экземпляров моей старины. К тому же я сам москвич: меня видали за бостоном, нет заманки для воображения“. То есть нет пророка в своем отечестве…
Итак, „все бросились читать“: завтрашние декабристы и вчерашние „новиковцы“; из рук в руки распространяются тома по известному рассаднику вольнодумства Училищу колонновожатых; об „Истории“ толкуют в гимназиях, семинариях, салонах, в ученых и литературных обществах…
Вот лишь некоторые из первых откликов:
Жуковский — „…я гляжу на Историю нашего Ливия, как на мое будущее: в ней источник для меня и вдохновения и славы“.
Вяземский называет 8 томов „эпохой в истории гражданской, философической и литературной нашего народа“.
Сперанский (из Пензы): „…что бы ни говорили ваши либеральные врали, а „История“ сия ставит его наряду с первейшими писателями в Европе; скажу даже, что я ничего не знаю ни на английском, ни на французском языке превосходнее. Слог вообще прекрасный; дух — и времени, и обстоятельствам, и достоинству империи свойственный… Он бранит меня, не зная, а я хвалю его с основанием. История его есть монумент, воздвигнутый в честь нашего века, нашей словесности“.
Так бывший министр, чьи конституционные проекты были отринуты не без участия Карамзина, „мстит“ старинному неприятелю. Но поток восторгов продолжается.
Знаменитый Федор Толстой (Американец) „прочел одним духом восемь томов Карамзина и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал он, какое значение имеет слово Отечество, и получил сознание, что у него Отечество есть“ (записано Вяз омским).
Вигель обрадуется возвращению „со времен Петра презираемых нами преданий“ и „открытию нового мира“ Карамзиным.
Историк, публикатор старинных документов И. П. Сахаров: „Здесь-то [в Истории Карамзина] узнал я родину и научился любить Русскую землю и уважать Русских людей“. Еще и еще отклики.
Царь спрашивает мнение Вяземского об Истории сразу после ее выхода — тот еще не успел прочесть; Александр же объявляет, что проштудировал „с начала до конца“.
Заинтересовался и Запад. Любопытство к российской истории подогревается огромным усилением международной роли страны после 1815 года.
Зато суровый декабрист Николай Тургенев очень насторожен, он готовит важные возражения — но притом признается: „Чувствую неизъяснимую прелесть в чтении… Что-то родное, любезное“.
Такого успеха не было (и в известном смысле не будет!) ни у одного из историков. Правда, ни в одном крупном государстве того времени не было и такого пробела в исторических знаниях: ни англичанам, ни французам, ни немцам не нужно было открывать свою древность, как Колумбу Америку, так как они ее не теряли: другие исторические судьбы, другое отношение со своим прошлым…
Размышляя об этом несколько позже, Карамзин заметит друзьям, что, кроме всего прочего, винит в своей славе и удачу: „Есть же и у других таланты, которым не было средств не только развиться, даже и обнаружиться при обстоятельствах неблагоприятных; есть и трудолюбие, которое не имеет удачи“.
Если б не он — другим пришлось бы открывать древности, спасать Россию от нашествия забвения. Но все же именно он успел.
Пушкин же (не через 8 лет, в мемуарном отрывке, а тогда же — в стихах к Жуковскому) написал:
Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повести древних лет!
Он духом там — в дыму столетий…
(Речь идет о Батюшкове и его огромном интересе к „Истории Государства Российского“.)
Вяземский писал об этих строках Пушкина: „„В дыму столетий!“ — Это выражение — город: я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы „дыма столетий“? О прочих и говорить нечего“.