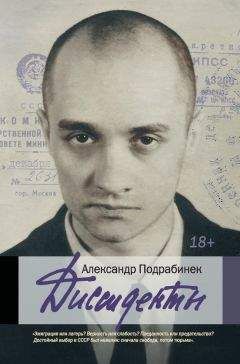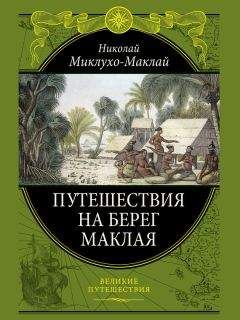Гораздо позже один веселый уголовник в «Матросской Тишине» рассказывал мне, как его судили по какой-то мелочной статье со сроком до года, и ему, отсидевшему под следствием уже месяцев девять или десять, было совершенно все равно, какой будет приговор. На последнем слове он встал и, понуро опустив голову, начал говорить, что очень виноват перед законом и советским народом. Судья смотрела на него благосклонно. Он долго и с удовольствием каялся, а потом поднял голову, улыбнулся и очень громко закончил свое выступление так: «Ну так дуньте же мне теперь, гражданин судья, в х… чтоб я взлетел и лопнул!» Ему все равно дали год, больше не могли.
На следующий день из милиции меня повезли в райисполком Дзержинского района Москвы, где сделали официальное предостережение об антисоветской деятельности. Секретарь исполкома Гладкова в присутствии кого-то со «скорой помощи», где я работал, и гэбэшника в штатском заявила, что им хорошо известно о моей «длительной и многогранной антисоветской деятельности» и что если я «не прекращу заниматься деятельностью, враждебной советскому государственному и общественному строю, то буду предан суду». Я не удивился. Мне было 23 года, и я уже несколько лет находился в эпицентре демократического движения. Удивительно, скорее, было то, что мне до сих пор еще не вынесли официального предостережения по известному указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года.
В милиции я сказал, что работать «на сутках» не собираюсь, и меня повезли отбывать пятнашку в 71-е отделение милиции. Это было обычное КПЗ, куда привозили задержанных, держали их там три дня, а потом развозили по тюрьмам. Кто-то из друзей передал мне теплую куртку, пару раз сделали продуктовую передачу. Народ в камере постоянно менялся, все рассказывали свои истории и делились впечатлениями о лагерях и тюрьмах. Приобретая свой первый тюремный опыт, я быстро научился чистить зубы пальцем, умываться известкой со стен, причесываться спичками и делать острые бритвы из сигаретных фильтров. В тюрьме быстро всему учишься, даже в такой облегченной, как КПЗ.
За четыре дня до истечения пятнадцатисуточного срока мне объявили, что за отказ от работы мне добавят еще 15 суток ареста. Я начал голодовку. Если бы пару лет спустя мне предложили объявить голодовку из-за 15 суток карцера, я бы долго смеялся. Но тогда мне все это казалось очень серьезным. Меня сразу перевели в одиночную камеру. Приезжали из прокуратуры, интересовались причиной голодовки. Я отвечал. Через четыре дня, в положенный срок меня выпустили.
У КПЗ меня встречал только Сашка Левитов. Я очень удивился, но, как потом оказалось, Зинаида Михайловна Григоренко распорядилась, чтобы к отделению милиции никто не ездил и демонстраций не устраивал. Мы с Сашкой поехали к Спартакам[30], где меня накормили, предварительно напоив изрядным количеством настоя сенны. Даже из четырехдневной голодовки выходить надо аккуратно. Через несколько часов меня начали разыскивать друзья и требовать, чтобы я немедленно приехал к Григоренкам. Полчаса спустя я уже был в их доме на Комсомольском проспекте. Там собралось много наших друзей, все меня обнимали, и я был тронут их вниманием.
Улучшив момент, я спросил Зинаиду Михайловну, почему она попросила никого не приезжать к отделению милиции. Она посмотрела на меня долгим взглядом и потом ответила ласково: «А чтоб не зазнавался!» Она любила меня как сына и боялась, чтобы меня не занесло. Наверное, это было правильно. Но все равно я чувствовал себя победителем и с удовольствием рассказывал о своих первых «сутках». Юра Гримм сделал несколько фотографий, на которые я теперь смотрю с некоторой грустью. Тогда я еще по-настоящему не осознавал, что это была генеральная репетиция моего полноценного тюремного срока.
Предостережение об антисоветской деятельности было для КГБ, вероятно, некоторым рубежом, после которого оперативные мероприятия переходили на другой уровень. Я почувствовал это сразу.
Пока я сидел под арестом, на работе провели общее собрание. Заведующий подстанцией, парторг и пара их прихлебателей единодушно осудили мое антисоветское поведение. Но отношение ко мне остальных врачей, фельдшеров, медсестер и шоферов не изменилось. Большую часть коллектива составляла молодежь, к тупой советской пропаганде уже не восприимчивая. Мы по-прежнему время от времени собирались большой компанией и шли куда-нибудь в парк Горького, пили после работы на скамейках Яузского бульвара кофейный ликер с «Байкалом» или устраивали вечеринки на чьей-нибудь квартире, а утром с головной болью шли на работу. Жизнь текла своим чередом и вне политики тоже.
Вскоре я получил повестку из военкомата. Не надо было ходить к гадалке, чтобы понять, что меня во чтобы то ни стало решили забрать в армию. С вооруженными силами у меня отношения не заладились с самого начала. Они страстно хотели принять меня в свои ряды, а я от этого так же страстно уклонялся. Они убеждали меня, что это мой священный долг и почетная обязанность, а я приносил им справки о болезни. Так тянулось довольно долго. Зная медицину и некоторые особенности человеческого организма, я умел создавать кратковременное патологическое состояние, которое стопроцентно фиксировалось при инструментальном обследовании. Осматривавшие меня врачи призывных военных комиссий только разводили руками и ставили диагноз, освобождающий от службы в армии. Так бы я благополучно и протянул до окончания призывного возраста, если бы в дело не вмешался КГБ.
В те годы, как, впрочем, и сейчас, от армии можно было избавиться двумя основными способами – откупиться или симулировать болезнь. Про первое не могло быть и речи, оставалось второе. Я знал многих ребят, получивших белый билет по придуманному заболеванию. Некоторым помогал советами.
С любопытной ситуацией я столкнулся однажды на «скорой помощи». Получив вызов «человек без сознания, на улице», я приехал на Солянку, где около дома, прислонившись спиной к стене, сидел молодой человек, а возле него хлопотали две девушки. Со слов этих девушек, у их приятеля внезапно случился припадок, он упал, бился в судорогах, ударился головой об асфальт. Мне рассказывали картину эпилептического припадка. Я осмотрел парня. У него действительно был фингал на затылке, но никаких признаков недавнего эпилептического припадка не было – ясное сознание, узкие зрачки, хорошие рефлексы, никаких следов прикуса языка – ничего, что объективно подтверждало бы эпилепсию. Я спросил у молодого человека, был ли он в армии, и краем глаза заметил, как многозначительно переглянулись его подруги. Мне все стало ясно: парень симулировал. Ему повезло, что он попал на меня. Всю дорогу до больницы я сидел в салоне машины и, закрыв окно в кабину водителя, читал «эпилептику» и двум его подругам лекцию о симптоматике, течении, возможных причинах и последствиях эпилепсии. Мы ни о чем не договаривались, но по их благодарным глазам я видел, что они всё поняли. Я сдал его в больницу с диагнозом «эпилепсия», что на девяносто процентов гарантировало ему подтверждение диагноза в стационаре, где его вряд ли стали бы держать больше двух-трех дней.