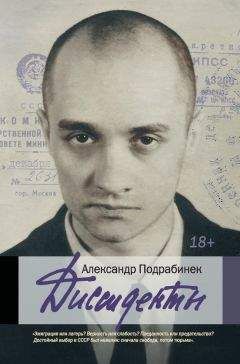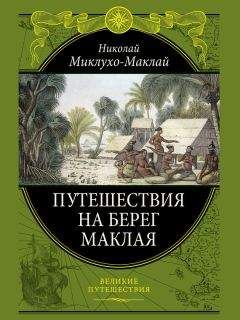До очередной медицинской комиссии мне было еще далеко, значит, вызов в военкомат связан с внеочередной комиссией. Военкомат направит меня в «свою» больницу, где меня признают здоровым и годным к службе, что бы ни говорили сами врачи и показания их приборов. Следовало их опередить.
Я лег в электростальскую городскую больницу для обследования, но не по направлению военкомата, а по собственной инициативе. Мне протежировала посвященная во все мои обстоятельства папина знакомая – врач, которая знала его уже лет двадцать пять, а меня – так просто с пеленок. Потянулись томительные больничные дни. Я притворялся больным, вводил в заблуждение врачей, мне делали инъекции, и все это было непривычно и весьма противно. Но деваться было уже некуда, приходилось терпеть.
Мои дела между тем поворачивались не лучшим образом. К счастью, в отделении работала хорошенькая рыжая медсестра Галка, с которой в ее ночные смены мы запирались в санитарной комнате, пили сухое вино и нежно проводили время до утренней раздачи лекарств. Она рассказала, что военкомат оказывает давление на больницу, с тем чтобы меня перевели в другой стационар, который им укажут. Я срочно выписался и через день, благодаря знакомым врачам, лег в больницу в другом подмосковном городе, так что ни КГБ, ни военные ничего об этом не узнали. Через две недели я вышел оттуда с подтверждением диагноза.
Все было напрасно. Явившись по очередной повестке в электростальский горвоенкомат, которым командовал подполковник с замечательной фамилией Долбня, я принес заключение врачей, но от него отмахнулись и велели через два дня явиться снова для направления на новое обследование. Все мои ухищрения, лавирование и попытки переиграть армейскую систему ни к чему не привели. Стало понятно, что меня признают годным и осенью заберут в армию.
Я решил больше не хитрить. Симулировать было не только противно, но и бесполезно. На одной из ближайших пресс-конференций для иностранных журналистов я объявил, что категорически отказываюсь служить в Советской армии, даже если за это против меня будет возбуждено уголовное дело. Я стал отказником.
И они отстали! Мне перестали приходить повестки, военкомат про меня словно забыл. Так я попрощался с армией, даже толком с ней и не познакомившись.
Следователей обучают искусству допроса в школах милиции и КГБ. Искусство противостоять следователям мы постигали на собственном опыте. Конечно, у нас были наставники и даже учебники – великая русская тюремная литература. Но по существу обучение начиналось прямо с «производственной практики».
В июле меня вызвали на допрос в УКГБ по Москве и Московской области. Следственный отдел находился на Малой Лубянке в доме 12а, рядом с костелом. Меня допрашивали в качестве свидетеля по делу Юрия Орлова. Идти на допрос не хотелось – днем у Григоренко намечалась пресс-конференция, на которой должны были быть представлены в том числе и материалы Рабочей комиссии. Но не ходить на допрос тоже было бессмысленно – в нарушение всех моих планов они могли на законных основаниях задержать меня в любую минуту и привезти на Лубянку.
Я пришел в следственный отдел к десяти утра. Допрос вел похожий на Шуру Балаганова следователь Капаев, кажется, в чине старшего лейтенанта. С самого начала Капаев начал не допрос, а беседу. Он очень старался. Говорил о чем-то совсем незначительном, чуть ли не о погоде, рассказывал анекдоты. Вероятно, так их в школе КГБ учили создавать непринужденную, доверительную обстановку. У меня еще не было опыта общения со следователями КГБ, но был чужой опыт, накопленный за десятилетия советской жизни и в последние годы диссидентской деятельности.
В демократическом движении не было стандарта общения со следователями, но правилом хорошего тона считался отказ от дачи показаний. Этому нас научила сама жизнь – чем меньше говоришь, тем меньше навредишь другим и себе. Между этой позицией и полноценным сотрудничеством со следствием существовало множество градаций, и каждый был волен выбирать то, что ему по вкусу. Одни пытались отвечать только на «безобидные» вопросы. Другие, как, например, Володя Альбрехт, придумывали головоломную систему отношений со следователем, которая, как им казалось, должна была уберечь их от ошибок. Третьи откровенно врали, надеясь запутать следствие, сбить его с толку. Впрочем, таких было немного. И уж совсем мало было тех, кто по трусости и малодушию шел на сотрудничество со следствием и давал откровенные показания. Это были предатели, их тогда были единицы.
Я выбрал правило хорошего тона – отказ от дачи показаний. Но я не стал заявлять об этом в начале допроса – хотелось выслушать все вопросы следователя, узнать, что его интересует. Вопросы были самые незатейливые: где, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Орловым; получал ли от него антисоветскую литературу; что знаю о группе «Хельсинки», о Фонде помощи политзаключенным и т. д. На каждый вопрос я аккуратно отказывался отвечать, а на вопрос «почему?» сообщал, что по морально-этическим соображениям.
Не знаю, кто придумал эти «морально-этические соображения», но действовало это безотказно. Получалось, что они задают вопросы, неприемлемые с морально-этической точки зрения. То есть мы – люди моральные, а они – нет. Все это очень выводило следователей из себя. Это была блестящая формулировка, и большинство диссидентов ею широко пользовались.
Допрос тянулся медленно. Капаев печатал протокол на пишущей машинке, но очень медленно, подолгу выискивая на клавиатуре нужные буквы и старательно стуча по ним указательными пальцами. Я скучал, прислушиваясь к звукам городской жизни за окном. На улице стояло жаркое лето, а в кабинете следователя было серо, прохладно, бездушно и уныло, как это почти всегда бывает в казенных кабинетах. Часа через четыре он с тоской посмотрел в окно и предложил устроить обеденный перерыв. Я с удовольствием согласился. Договорились продолжить через час.
Выйдя из здания КГБ, я бегом пустился к метро. От «Дзержинской» до «Парка культуры» вела прямая ветка, и уже минут через двадцать я был у Григоренко, где как раз заканчивалась пресс-конференция для западных корреспондентов. Журналисты ценят свежую информацию, и мой рассказ о том, что полчаса назад интересовало следователя, ведущего дело Орлова, был выслушан с большим интересом. Я ответил на много разных вопросов.
Ровно к назначенному времени я снова был в кабинете Капаева. Допрос продолжился. Вопросы не отличались разнообразием, а уж мои ответы – тем более. Капаев время от времени куда-то выходил, потом возвращался, и допрос шел дальше. Так продолжалось до восьми часов вечера. Наконец он решил поставить точку и дал мне протокол, чтобы я его подписал. Я ознакомился с нехитрыми вопросами следователя и своими незамысловатыми ответами, но подписывать отказался.