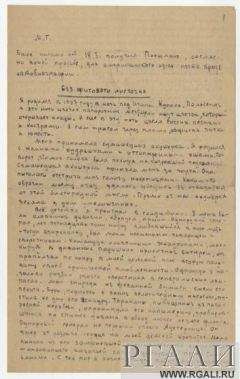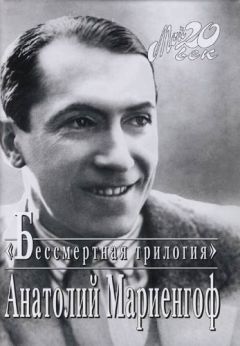– А все-таки… съем!
Поэтик распахнул дверь.
Вот наша ссора. Первая за шесть лет. Через месяц мы встретились на улице и, не поклонившись, развели глаза.
Весной я снова уехал с Никритиной за границу. И опять вернулись в Москву в непролазь и мглу позднего октября. В один из первых дней по приезде побывали у Качаловых. В малюпатенькой их квартирке в Камергерском пили приветливое хозяйское вино.
Василий Иванович читал стихи – Блока, Есенина. Из угла поблескивал черной короткой шерстью и большими умными глазищами качаловский доберман-пинчер.
Василий Иванович положил руку на его породистую точеную морду:
– Джим… Джим… Хорош?
– Хорош!..
– Есениным воспет!
И Качалов прочел стихотворение, посвященное Джиму. А я после спросил:
– Что Есенин?.. Погоже или худо?..
Вражда набросала в душу всякого мусора и грязи. Будто носили в себе помойные ведра.
Но время – и ведра вывернуло и мокрой тряпкой подтерло.
– Будто не больно погоже…
И Василий Иванович рассказал теплыми словами о том, что приметил за редкие встречи, что понаслышал от людей к Есенину близких и от людей сторонних.
– А где же сейчас Сережа?.. Глупо и гадко все у нас полу чилось… Не из-за чего и ни к чему…
До позднего часа просидели в малюпатенькой комнатке за приветливым хозяйским вином. Прощаясь, я сказал:
– Вот только узнаю, в каких обретается Есенин палестинах, и пойду мириться.
В эту же ночь на Богословском несколько часов кряду сидел Есенин, ожидая нашего возвращения. Он колыхал Кирилкину кроватку, мурлыкал детскую песенку и с засыпающей тещей толковал о жизни, о вечности, о поэзии, о дружбе и о любви.
Он ушел, не дождавшись.
Велел передать:
– Скажите, что был… обнять, мол, и с миром.
Я не спал остаток ночи. От непрошеных слез измокла наволочка.
На другой день с утра бегал по городу и спрашивал подходящих людей о есенинском пристанище.
Подходящие люди разводили руками.
А под вечер, когда глотал (чтобы только глотать) холодный суп, раздался звонок, который узнал я с мига, даром что не слышал его с полутысячу, если не более, дней.
Пришел Есенин.
Около недели суматошился я в погоне за рублем. Засуматошенный вернулся домой. Никритина открыла дверь:
– У нас Сережа…
И встревоженно добавила:
– Принес вино… пьет…
Когда в последнее время говорила: «Есенин пьет», – слова звучали как стук костыля.
Я вошел в комнату.
Еще желтая муть из бутылок не перелилась в его глаза. Мы крепко поцеловались.
– Тут Мартышон меня обижает… Есенин хитро прихромнул губой:
– Выпить со мной не хочет… за мир наш с тобой… любовь нашу…
И налил в стакан непенящегося шампанского.
– Подожди, Сергун, сначала полопаем… Мартышка нас щами угостит с черной кашей… Ешь…
Есенин сдвинул брови:
– А я – мало теперь ем… почти ничего не ем… И залпом выпил стакан.
– Весной умру… Брось, брось пугаться-то… говорю умру – значит, умру…
Опять захитрили губы.
– У меня… горловая чахотка… значит: каюк!
Я стал говорить об Италии, о том, что вместе закатимся весной к теплой Адриатике, поваляемся на горячем песке, поглотаем не эту дрянь (и убрал под стол бутылку), а чудесное палящее расплавленное золото д’аннунциевского солнца.
– Нет, умру.
«Умру» произносил твердо, решенно, с завидным спокойствием.
Хотелось реветь, ругаться последними словами, карябать ногтями холодное, скользкое дерево на ручках кресла.
Жидкая соль разъедала глаза.
Никритина что-то очень долго искала на полу, боясь поднять голову.
Потом Есенин читал стихи об отлетевшей юности и о гробовой дрожи, которую обещал он приять как новую ласку.
– К кому?
– К Есенину.
Дежурный врач выписывает мне пропуск.
Поднимаюсь по молчаливой, выстланной коврами лестнице. Большая комната. Стены окрашены мягкой, теплой краской. Мерцает синий глаз электрической лампочки.
Есенин сидит на кровати, обхватив колени.
– Сережа, какое у тебя хорошее лицо… Волосы даже снова запушились.
Очень давно я не видел у Есенина таких ясных глаз, спокойных рук, бровей и рта. Даже пооблетела серая пыль с век.
Я вспомнил последнюю встречу.
Есенин до последней капли выпил бутылку шампанского. Желтая муть перелилась к нему в глаза. У меня в комнате на стене украинский ковер с большими красными и желтыми цветами. Есенин остановил на них взгляд. Зловеще ползли секунды, и еще зловещей расползались есенинские зрачки, пожирая радужную оболочку. Узенькие кольца белков налились кровью. А черные дыры зрачков – страшным, голым безумием.
Есенин привстал с кресла, скомкал салфетку и, подавая ее мне, прохрипел на ухо:
– Вытри им носы!
– Сережа, это ковер… ковер… а это цветы… Черные дыры сверкнули ненавистью.
– А!., трусишь!..
Он схватил пустую бутылку и заскрипел челюстями:
– Размозжу… в кровь… носы… в кровь… размозжу…
Я взял салфетку и стал водить ею по ковру – вытирая красные и желтые рожи, сморкая бредовые носы.
Есенин хрипел. У меня холодело сердце. Многое утонет в памяти. Такое – никогда. И вот: синий глаз в потолке. Узкая кровать с серым одеялом. Теплые стены. И почти спокойные руки, брови, рот. Есенин говорит:
– Мне очень здесь хорошо… только немного раздражает, что день и ночь горит синенькая лампочка… знаешь, заворачиваюсь по уши в одеяло… лезу головой под подушку… и еще – не позволяют закрывать дверь… все боятся, что по кончу самоубийством.
По коридору прошла очень красивая девушка. Голубые большие глаза и необычайные волосы, золотые, как мед.
– Здесь все хотят умереть… эта Офелия вешалась на сво их волосах.
Потом Есенин повел в приемный зал. Показывал цепи и кандалы, в которые некогда заковывали больных, рисунки, вышивки и крашеную скульптуру из воска и хлебного мякиша.
– Смотри, картина Врубеля… он тоже был здесь… Есенин улыбнулся:
– Только ты не думай – это не сумасшедший дом… сумасшедший дом у нас по соседству.
Он подвел к окну:
– Вон то здание!
Сквозь белую снежную листву декабрьского парка весело смотрели освещенные стекла гостеприимного помещичьего дома.
Платон изгнал Гомера за непристойность из своей идеальной республики.
Я не Гомер.
У нас республика Советов, а не идеальная.
Можно мне сказать гадость? Совсем маленькую и не очень скабрезную? О том, как надо просить у жизни счастья.
Так вот: счастья надо просить так, как одесский беспризорный милостыню:
– Гражданка, дайте пятачок. А не то плюну вам в физиономию – у меня сифилис.