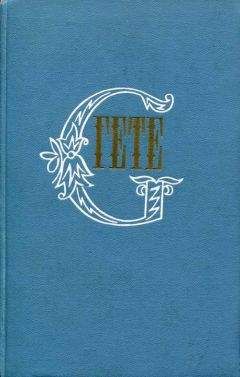На главном его поле — две фигуры, мужчина и женщина, мощной стати — в руке главы семейства рука его супруги, а над ними парит третья, уже стершаяся, видимо, их благословляющая; они стоят меж двумя богато орнаментированными пилястрами, на которых расположены друг над другом танцующие дети.
Все прочие поля указуют на счастливые, взаимосогласные отношения семейства, на дружескую совместную деятельность всех родичей фамилии и обретенное их честным, согласным трудом праведное благосостояние.
Но, по сути, здесь надо всем главенствует прославление труда, неустанной деятельности; не берусь объяснять все изображения. На одном поле, видимо, представлены купцы, обдумывающие предстоящее дело. Но тем более очевидны и не допускают разногласия груженые суда, украшенные изображением дельфинов, идущие друг за другом вьючные кони, прибытие и осмотр товаров и подобные вполне привычные человеку житейские сцены.
А выше, на аттике, — мчащаяся лошадь, быть может, недавно еще везшая груженую телегу и дюжего возчика. На фризах и других плоскостях, а также на фронтоне — Вакх, фавны, солнце, луна и прочие разности, способные украсить шпиль и пилястры.
Все в целом производит отраднейшее впечатление, и мы вправе утверждать, что и на уровне, ныне достигнутом нашей архитектурой, а также изобразительными искусствами, было бы вполне возможно воздвигнуть величественный памятник достойнейшим современникам, их деяниям и благородным досугам. Мне было приятно провести в таких размышлениях день рождения всеми нами почитаемой герцогини Амалии. Я тихо отпраздновал его в полном одиночестве, перебирая в памяти труды и дни ее жизни. И тут возникло во мне страстное желание хотя бы мысленно воздвигнуть ей во славу такой же обелиск, заполнив все его плоскости до нее относящимися изображениями совершенных ею мудрых деяний и неустанной благотворительности.
Трир, 25 октября.
Выпавшие на мою долю покой и заботливый уход позволили мне привести в порядок и пересмотреть многое из того, что было мною продиктовано в беспокойно-сумбурное время. Я частию выправлял, частию заново излагал мои хроматические заметки, изрядно пополнил и уточнил мою таблицу цветов, не раз ее изменяя, дабы сообщить большую наглядность тому, что утверждалось и высказывалось мною раньше, и стремясь довести свои мысли до очевидной непреложности. В этой же связи я хотел всегда иметь под рукой третий том Фишерова «Физического лексикона». По тщательно наведенным справкам, я нашел наконец несчастную судомойку в благоустроенном лазарете при женском монастыре. Она хворала все той же столь распространившейся болезнью; но палаты были опрятны и хорошо проветрены. Она меня узнала, но не могла говорить, а только вынула из-под подушки третий том и дала мне его из рук в руки таким же чистым и нерастрепанным, каким я некогда ей вручил его. Видно, мои напутственные слова не пропали даром.
Меня навещал один молодой учитель, приносивший мне новейшие журналы, с которым я охотно вступал в содержательные беседы. Он крайне удивлялся, как многие другие, что я будто и вовсе не интересуюсь поэзией и, как казалось, все свои силы обратил на познание природы. Он основательно был знаком с Кантовой философией, и это мне облегчило объяснить ему путь, пройденный, вернее только начатый, мною. Если Кант в своей «Критике способности суждения» усматривал некую общность эстетической способности суждения с телеологической, он тем самым хотел сказать, что творение искусства надо рассматривать как творение природы и, напротив, творение природы как творение искусства и что ценность каждого из них зиждется в нем самом и в каждом из них должна усматриваться независимо от чего-либо стороннего. Говорить об этом предмете я мог весьма красноречиво и, льщу себя надеждой, не без пользы для славного молодого человека. Поразительно, что в любую эпоху люди носятся и возятся с правдой и кривдой недавнего, а то и давнишнего прошлого, и только отдельные бодрствующие умы идут новыми путями, но — увы! — в одиночестве или обретая спутника, верного тебе разве лишь на малом перегоне долгой дороги.
Трир, 26 октября.
Нельзя и шага ступить из своего тихого затвора, не очутившись в глухомани мрачного средневековья, где монастырские стены и непрерывная, хоть и необъявляемая война непрестанно противостоят друг другу. Особенно сетуют домоседы-горожане и улепетывающие эмигранты на ужасное бедствие, поразившее города и веси из-за вошедших в обращение фальшивых ассигнаций. Солидные торговые дома направили эти сомнительные расчетные знаки в Париж, чтобы выяснить их подлинность или подложность, то есть полную обесцененность таковых и даже подсудную опасность рассчитываться фальшивыми ассигнациями. Само собою, что тем самым подрывался кредит и подлинных. Все догадывались, что при изменившихся обстоятельствах легко может случиться и полное изничтожение всех бумажных денег, фальшивых и нефальшивых. Это нависшее над страной новое несчастие, в дополнение к прежним, всем казалось уже безмерным, сравнимым разве лишь с тем, когда на твоих глазах пожар испепеляет родимый город.
Трир, 28 октября.
Табльдот, надо сказать, вполне приличный и даже разнообразный, был очень пестр и разношерст по составу посетителей: военные в разновидных мундирах всех цветов, чиновники в своих вицмундирах разных ведомств, все втихую чем-то недовольные, а подчас и несдержанные на язык, но вкупе все без исключения пребывающие в одном и том же аду.
Но именно здесь мне довелось пережить истинно трогательную случайную встречу. Старый гусарский офицер, среднего роста, с поседевшими усами и такой же головой, подошел ко мне после обеда, схватил меня за руку и спросил, неужели же и я все это выстрадал вместе с другими? Я рассказал ему кое-что о Вальми и о Ане, что дало ему возможность представить себе все остальное. Он заговорил с энтузиазмом и живым участием, в словах, которые я не решаюсь даже доверить бумаге. Смысл его речи сводился к тому, что было безответственным подвергать таким испытаниям и тех, чьим солдатским долгом является, рискуя жизнью, претерпевать такие беды, равных которым не знает история; но то, что и я (он высказал свое мнение обо мне как личности и о моих работах) должен был пережить такое, с этим он никак не мог примириться. Я попытался отозваться о пережитом с более отрадной стороны. Заговорил о моем государе, которому я был и там небесполезен, о том, что охотно разделял суровое испытание со смелыми боевыми товарищами. Но старый рубака стоял на своем. Тут подошел к нам кто-то из цивильных и заявил, что надо меня благодарить за то, что я пожелал все это видеть воочию, ибо от моего испытанного пера только и можно ждать достоверного воссоздания и объяснения происшедшего. «Он слишком умен! — воскликнул старый вояка, ничуть с ним не соглашаясь. — Писать то, что ему дозволят написать, он не захочет, а писать, что он хотел бы высказать, ему не удастся».