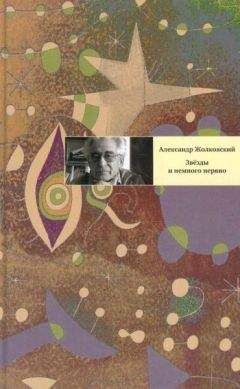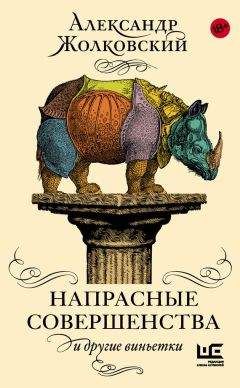Рано или поздно случайность должна была произойти, тем более что зарвавшиеся медиумы вели себя все неосмотрительнее. И она произошла.
– Он тебе известен! И ты его знаешь! Цепляйся за мою мысль! Ты его знаешь!..
– Тургенев!
Нескладное «цепляйся» до тех пор ни разу не появилось в моих протоколах и этим напоминало аналогичное «шевели». Зачем, вместо привычных «Думай…!», «Подумай…!», «Говори…!» или, на худой конец, «Лови…!», нужны эти «Шевели…!» и «Цепляйся…!»? Простейшая догадка состояла в том, что понадобились они – вопреки заверениям медиумов – ради редких начальных букв: «ш» и «ц». Но в таком случае вопрос принимал вполне конкретный вид: что делает буква «ш» в Жорж Санд и буква «ц» в Тургеневе?
На первый взгляд, ничего. Разумеется, второе «ж» в имени Жорж оглушается, но вряд ли дело в этом. А уж к Ивану Сергеевичу Тургеневу «ц» не имеет никакого отношения. А впрочем, так-таки ли никакого? Где у Тургенева «ц»?! Известно, где – в названии его главного романа: «Отцы и дети»!
За это действительно можно было уцепиться. Обратившись к тургеневскому протоколу, мы легко находим «о» в начале первой фразы («Он тебе известен!»). Но вторая и четвертая не начинаются с «т» и «ы»! Правильно, не начинаются, но продолжаются именно ими – в качестве вторых букв! Иными словами, в нечетных фразах считается первая буква, а в четных – вторая. Перед нами действительно своего рода стихи, и они действительно передают не имена творцов, а созданные ими образы. Но все-таки – по буквам.
О н тебе известен!
И Т ы его знаешь!
Ц епляйся за мою мысль!
Т Ы его знаешь!..
Я тотчас кинулся к собранному материалу и убедился, что несложное правило работало во всех случаях. «Онег…» легко давал (в музыкальных кругах) Чайковского, «Лунн…» – Бетховена и т. д. Интригующий вопрос о связи «ш» с Жорж Санд читатель уже в состоянии разрешить сам (а заодно оценить перекличку этой шарады с загаданной Зализняком).
На другое утро – в последний день взятого мной срока – я предупредил папу, что за завтраком произойдет небольшой сюрприз. Наш стол был на веранде, и путь к нему лежал через главный зал, где сидели Б. и С. Проходя мимо них, я громко проскандировал:
– Кто он? Думай хорошенько! Кто он? Думай хорошенько!
Они приняли это за беззубую имитацию их фразеологии и отвечали насмешливыми вопросами, когда же кибернетика скажет свое слово. Сдерживая внутреннее торжество, я смолчал, и под эти смешки мы проследовали на веранду. Но не прошло и минуты, как сработало то, что в американском кино называется double take, – мое «куку!» дошло. Они прибежали с озабоченными лицами и склонились надо мной, умоляя не выдавать их. Я великодушно согласился и в дальнейшем иногда выступал вместе с ними. Публике было объявлено, что кибернетика проникла-таки в тайны творчества.
У Ильфа и Петрова есть фельетон «Рождение ангела» – на тему о коллективной доводке киносценария – с незабываемой фразой: «Полки вел Голенищев-Кутузов 2-й».
В 1970 году в журнале «Народы Азии и Африки» появилась моя статья со структурным анализом одного сомалийского текста. Этому предшествовало ее одобрение главным редактором И. С. Брагинским (наложившим ленинского типа резолюцию: «Дать, снабдив марксистской врезкой От редакции» ) и последующее медленное продвижение в печать. (Структурализм был внове – мое появление в редакции встречалось драматическим шепотом: «Структуралист пришел!») Но вот, наконец, мой редактор Лева К. сказал, что в определенный день, точнее, вечер, на редколлегии будет решаться вопрос о сдаче номера в типографию и мне желательно быть под рукой на случай, если возникнут вопросы.
В назначенный час я прохаживался по коридору редакции, время от времени подглядывая в щелку за происходившим в огромном кабинете главного. Самого Брагинского не было, и председательствовал его заместитель Г. Г. Котовский – сын легендарного комбрига, как объяснил мне выглянувший в коридор Лева. Ждать пришлось долго – каждый материал обсуждался со всей подробностью. Впрочем, проблематичными, видимо, считались лишь две статьи, ибо, кроме меня и пожилого человека с усталым, чем-то знакомым, желтым, татароватым лицом, в коридоре никого не было.
Меня на ковер так и не пригласили, но о потраченном времени жалеть не пришлось. Во-первых, статья пошла в номер без дальнейших разговоров, а во-вторых, когда Лева вышел позвать в кабинет другого, явно более спорного автора, он почтительно назвал его Львом Николаевичем, и я сообразил, что это был очень похожий на мать сын Ахматовой и Гумилева. Его лагерные мытарства остались к тому времени давно позади, а собственная репутация шовиниста-этногенетика только набирала силу, и он все еще ходил в диссидентах; публикация в «Народах Азии и Африки» была, по-видимому, нужна ему и отнюдь не гарантирована. Подстрекаемый любопытством, я проскользнул в дверь вслед за ним.
Полки вел Котовский 2-й. В противоположность брутальному бритоголовому гиганту, созданному усилиями Каплера, Файнциммера и Мордвинова (и его, вероятно, еще более жуткому прототипу), он оказался вальяжным, с пухлыми щечками и аккуратной прической, советским джентльменом, среднего роста, при галстуке и в замшевых туфлях. Ничто в его вкрадчивых манерах не наводило на мысль о конском топоте, сабельных атаках, тачанках, погромах, трупах. Мягкими, дипломатично закругленными фразами он заговорил об интереснейшей статье почтеннейшего Льва Николаевича. Я все ждал, когда же он совершит свой выпад, и – после изматывающих комплиментарных подступов – дождался.
– Чего мне, может быть, недостает в статье многоуважаемого Льва Николаевича, – все с той же воркующей ласковостью сказал он, – это четкого применения классовых, историко-материалистических критериев. Возможно, оно просто недостаточно бросается в глаза при первом чтении, и Льву Николаевичу, я думаю, самому представится желательным дать эти моменты более, так сказать, выпукло.
Гумилев заговорил со столь невозмутимым спокойствием, что я ему немедленно позавидовал. За его преувеличенной восточной любезностью стояла не только бескомпромиссная, ахматовской закалки твердость, но и вызывающая, пусть символическая, апелляция к насилию, в которой сказывался то ли киплинговский налет, унаследованный с отцовскими генами, то ли собственный зэковский опыт.
– Благодарю вас, глубокоуважаемый Григорий Григорьевич, за незаслуженно лестное мнение о моем скромном опусе. И вы абсолютно правы насчет классового подхода, каковой в нем, действительно, не нашел применения. Дело в том, что меня интересуют исторические закономерности более общего порядка. Позволю себе совершенно отвлеченный пример. Если, скажем, взять какого-нибудь человека, поднять его на самолете на высоту несколько тысяч метров над каким-нибудь пустынным местом и сбросить оттуда вниз, то можно с более или менее полной достоверностью предсказать, что, ударившись о песок, он разобьется насмерть. И для того чтобы прийти к этому научному выводу, вовсе не потребуется учет классовой принадлежности этого человека и социальных взаимоотношений между ним и владельцами самолета. Так что я не думаю, что мой текст нуждается в каких-либо добавлениях, разве что вы, Григорий Григорьевич, настаивали бы на включении в него этого небольшого мысленного эксперимента.