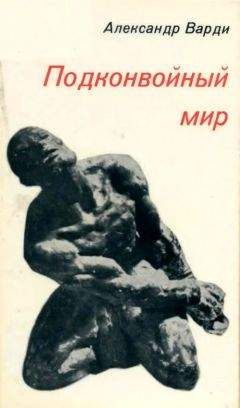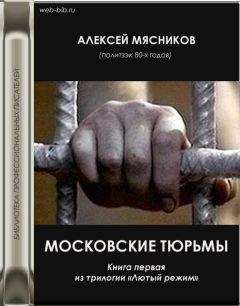— Вот это дельно, — пробурчал Шлыков.
— У него одна установка — продолжал Гребешков: «Сколько, — говорит, — жидов в забое, столько их и на ученых постах», «сколько сталеваров, — столько и студентов».
Я, бывало, чтобы раззадорить его, начинаю возражать: Ты ж, — говорю, — ни одной нации такую норму не ставишь. Зачем, — говорю, требовать, чтоб куры молоком доились, а коровы яйца несли. Горазды жиды в научной хитромудрости. Пусть. Нам же польза.
А он свое: «На общие их работы, и никаких гвоздей. Докажу, — говорит, — что и мы не лыком шиты, не навоз в башке, что сами с усами, что не ноздрей мух бьем. Покажем жидам, где она, падла, кузькина мать. Всех дохлых крыс и завонявшихся кошек на них повесим. Всех блох за пазуху напустим. Народ, курва, привык издавна к тому, что все беды и все ошибки, всю злость людскую на жидов переключают, на них душу отводят. Докажем, блин буду, что не виноват Игнат, что много в деревне хат, а виновата, падла, хата против Игната».
Знаю, братцы, докажет, сукин сын. Хитер. Бога за бороду схватил. За словом в карман не лазит: сорок лет ораторствует. Где у демократа-слюнтяя совесть гниёт, там у него срам и бородавки выросли. Оглушит всех трехпалым свистом в бабушку, в печенку, в душу мать. А вид-то! Вид аристократа: не пьян — а водочкой разит завсегда.
— Фан Фаныч, — допытывался Шлыков, — гуторють, что москали дюже с жидами перемешались: в жены жидовок нахватали, в зятья.
— Это, брат, военная хитрость, — лукаво подмигнул Гребешков. — Триста лет татары володели Русью и исчезли. Куда? — В бабьем брюхе пропали. Переварила их утроба русская. Со стоном, хрустом, да бабьим шальным приговором переплавили мы несметные орды. Жидов же походя сглотнем. Песня их спета: не трать кум силы — опускайсь на дно.
За окном лиловел вечерний небосвод. Окна вверху оттаяли. На дворе стояла первая оттепель. Мир томили надежды, тревожные сны и предчувствия.
3Подстанцию сталеплавильной печи и заводскую лабораторию разделяла кирпичная стена. В этой стене была дверь, которой издавна не пользовались.
В 1950 году, когда помещение канцелярии литейного цеха разделили на несколько комнат, двери сняли для бухгалтерского закутка, а дверной проем заделали фанерой, затем покрасили стены. Позже эту фанеру покрыли разноцветные провода, так, что Пивоваров, начавший работать на подстанции в январе 1953 года, не заметил неоднородности стены и не догадывался, что в прилегающей комнате лаборатории хорошо слышно все, что кричат друг другу люди на подстанции, стремясь быть услышанными в шуме окружающих машин.
На подстанции не были слышны звуки из лаборатории, ибо рядом гудел и ревел мощный трансформатор дуговой печи, стрекотали многочисленные реле и пускатели, гулко кашлял небольшой компрессор, жужжали генераторы и моторы автоматического управления электродами печи, доносился треск и рев ослепительных молний, обрушивавшихся с электродов на бурлящий пенный стальной кипёж в сталеплавильной ванне.
В комнате лаборатории, примыкавшей к подстанции работала Варвара Михайловна Высоцкая, занимаясь испытанием инертных материалов. В край бесконечных зим пригнали Высоцкую пятнадцать лет тому назад как жену «врага народа». Два месяца по тридцать километров в день шла она с сотней других женщин по льду замерзших рек из Котласа в Кочмес на реке Усе, подгоняемая окриками, прикладами, рыком конвойных псов.
Так начиналась расплата за любовь, за брак по любви с офицером генерального штаба Красной армии. В девятнадцатое лето жизни рухнуло счастье, и даже воспоминания о нём поблекли в горниле страшных лет.
После отбытия пятилетнего срока в лагере Высоцкую перевели на бессрочное спецпоселение.
Ничего не знала она о судьбе мужа. Не верилось, что жизнерадостный атлет, умница и красавец мог пропасть, погибнуть, исчезнуть. На запросы о судьбе мужа чекисты, как обычно, отмалчивались.
Там, на подстанции, за фанерной мембраной, многие годы не было ничего интересного. Ничто даже не возбуждало любопытства от скуки. Пьяные оргии Гребешкова, Даля, Шлыкова, происходили в вечернее время.
Однажды, впрочем рассмешил Высоцкую один разговор. Ей стало ясно, что Гребешков поручил Далю подыскать на должности дежурных электриков подстанции двух смазливых девчонок, которые могли бы внести разнообразие в наскучившие холостяцкие попойки на подстанции. Даль кого-то рекомендовал. Гребешков спрашивал:
— Кто она?
— Блондинка, — донесся голос Даля.
— Натуральная или крашеная?
— Под мышку пока не заглядывал, — ответил Даль, — и в душ наш она не ходила. Видать только девочка теплая, свежая и до проказ любопытная, жадная. Когда предложил ей должность — сразу сообразила: помахала пальчиком под моим носом, постреляла глазками по сторонам, покраснела и… согласилась.
Не колеблясь, пересказала Высоцкая подслушанный разговор жене Гребешкова, работавшей тоже в лаборатории.
Гребешкова, втайне от мужа, попросила главного инженера Драгилева не санкционировать зачисление на подстанцию девушек и сорвала, таким образом, очередную проказу мужа.
С того дня Высоцкая и Гребешкова стали приятельницами. Тесной дружбы между ними не было. Непроходимая, хоть и невидимая преграда разделяла этих женщин: одна была женой партийца, крупного, хоть и проштрафившегося бюрократа, другая — ссыльной.
Гребешкова часто жаловалась подруге на измены мужа. Об этом можно было без особых опасений разговаривать с морально честной, умевшей молчать ссыльной, тем более, что об адюльтерах Гребешкова болтали все.
— Женострадатель проклятый! — причитала Гребешкова. — Молодость, красоту, здоровье — все ему, охальнику пархатому отдала. Сколько абортов сделала и только потому, что никогда не знала: со мной останется, иль другого короля искать. И он ведь всегда на взводе, а от пьяного — какие дети!.. — Вздыхала тучная Гребешкова. — Намучилась. Стукнуло уж сорок лет, бабий век, а счастья нет. Правда, на легковых разъезжала, в мехах ходила, заграничные платья есть. Люди завидуют, а что в душе моей — никто не знает и никто не сочувствует. Разве что, — спохватилась она, — главный инженер моего обормота маленько одергивает. Просила его. Сама знаешь: як бида, так до жида; ну и партийность у него не в кармане, а в душе. Одинок этот Драгилев, как лось… Да, так вот, на молодую, бывало, все зубами клацали, — продолжала Гребешкова, — всяк со своим толстым интересом подкатывался. Не то — сейчас. Сейчас вон одышка, седина, зубы крошатся, талия салом обросла. Сорок годков стукнуло. Хоть бы дитё было — утеха, а то всю жизнь как в вагоне. Не даром толкуют: жизнь у нас, как езда в автобусе — не все сидят, но все трясутся.