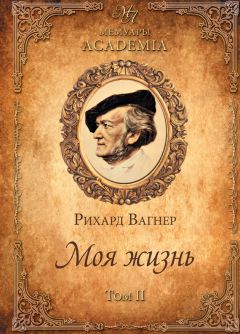Такое крупное событие в моей жизни должно было, конечно, оказать огромное влияние на мою дальнейшую судьбу. Но в данный момент оно ничего не меняло в положении моих дел, и потому я живее всего интересовался вопросом, что думает предпринять мой молодой друг, предоставленный моему попечению. Проездом в Веймар он повидался в Дрездене со своей семьей. Возвратившись, он заявил мне о своем пламенном желании выбрать в качестве практической карьеры музыкальную деятельность и, если возможно, занять при театре место музикдиректора. До тех пор я не имел еще случая ознакомиться в этом отношении с его способностями. При мне он не решался играть на фортепьяно, но он показал мне композицию на собственный текст, написанный аллитерационным стихом[157] под заглавием «Валькирия», и хотя она произвела на меня впечатление чего-то крайне беспомощного, я все же имел возможность убедиться в том, что он прекрасно знает композиторскую технику. В этом знании теории, несомненно, сказывались преимущества школы Роберта Шумана. Последний говорил мне, что он считает Риттера чрезвычайно одаренным юношей, что ему никогда еще не приходилось встречать у кого-либо из своих учеников такого тонкого слуха, такой прекрасной музыкальной памяти. У меня не было поэтому никаких оснований отнестись недоверчиво к дирижерским способностям моего молодого друга, в наличие которых он сам твердо верил.
Ввиду приближения зимнего сезона я постарался разузнать, кто станет во главе труппы, которая будет играть в Цюрихе. Мне было сообщено, что в данный момент она находится в Винтертуре. Тогда я обратился за помощью и советом к Зульцеру, который всегда был готов оказать мне дружескую поддержку, и он устроил мне свидание с Крамером[158], директором театра, на одном торжественном обеде в местной гостинице Wilder Mann [«Дикарь»]. Было решено, что Карл Риттер, которому Крамер на основании моей рекомендации предложил довольно приличное жалованье, вступит с октября в должность музикдиректора при Цюрихской опере. Так как рекомендуемый мной юноша был новичком в оперном деле, то я должен был дать за него поручительство, которое состояло в том, что я брал на себя обязательство заменить за дирижерским пультом Риттера, если вследствие недостаточной его подготовки к капельмейстерской деятельности произойдут какие-либо задержки в ходе театральных дел. Карл, по-видимому, был очень доволен.
Когда наконец стал приближаться октябрь и вместе с ним день открытия театрального предприятия Крамера, который объявил, что в его опере будет обращено особое внимание на художественность постановок, я счел необходимым серьезно переговорить с моим другом относительно предстоящего в ближайшем будущем его выступления перед публикой в качестве дирижера. Чтобы дать ему возможность дебютировать в хорошо знакомой вещи, я выбрал для него «Фрейшютца». Карл нисколько не сомневался, что он одолеет такую легкую партитуру. Но когда, победив застенчивость и нежелание играть в моем присутствии на фортепьяно, он стал разбирать вместе со мной клавираусцуг оперы, я, к ужасу моему, убедился, что Риттер не имеет ни малейшего представления о том, что значит аккомпанировать, и с характерной для всех дилетантов беззаботностью насчет точности исполнения совершенно спокойно удлинял, например, на лишнюю четверть такт, если ему нелегко было справиться с техническими трудностями при передаче партитуры. О ритмической точности, о темпе, которые так важны для дирижера, он не имел ни малейшего понятия. Я был поражен и даже не нашелся, что сказать моему молодому другу. Ошеломленный таким неожиданным открытием, я не стал его уговаривать отказаться от дирижирования, и когда дело дошло до оркестровой репетиции, все еще надеялся на внезапное обнаружение таланта. Единственное, о чем я позаботился, это купить для него пару очков, так как вследствие своей близорукости, о которой он совершенно не подозревал у себя, он так близко наклонялся к нотам, что уже не мог видеть ни певцов, ни оркестра.
Но стоило мне только раз увидеть, как Риттер держится за дирижерским пультом, к которому, несмотря на свои большие очки, он почти прикасался лицом, боясь отвести глаза от партитуры, стоило мне увидеть, как, точно во сне, он вырисовывал в воздухе палочкой какой-то фантастический такт, чтобы понять, что мне немедленно придется самому заменить его согласно обещанию, данному директору театра. Только с трудом удалось мне объяснить молодому Риттеру, что ему необходимо уступить свое место за дирижерским пультом мне. Делать было нечего, мне пришлось продирижировать первым спектаклем Крамеровского театра, «Фрейшютцем», и вследствие успеха, выпавшего на мою долю, я был поставлен в такое положение, что не мог отказаться от дальнейшего участия в его делах, так как этого требовала публика.
254
Очевидно, нечего было и думать о том, чтобы место дирижера при опере осталось за Карлом. По странному стечению обстоятельств одновременно с этим неприятным для меня открытием я узнал, что другой мой друг, Ганс фон Бюлов, с которым я познакомился еще в бытность свою в Дрездене, тоже решил избрать музыкальную карьеру. За год до этого я встретился с отцом его, Эдуардом фон Бюловом, в Цюрихе, куда он приехал сейчас же после вторичной своей женитьбы. Бюлов поселился у Боденского озера, и оттуда я получил письмо от Ганса, в котором он извещал меня, что, к величайшему огорчению, не может исполнить своего пламенного желания посетить меня в Цюрихе, о чем он писал мне раньше. Зная положение дел в семье Бюловов, я объяснял себе это письмо влиянием разведенной жены Бюлова, которая старалась удержать Ганса от артистической карьеры и уговаривала его, так как он был юрист по образованию, поступить на государственную службу или в дипломатический корпус. Но склонности и способности влекли его к музыке. Разрешив сыну повидаться с отцом, она взяла с него слово, что он не заедет ко мне. С другой стороны, мне было известно, что и отец Ганса, вообще говоря, относившийся ко мне хорошо, тоже не разрешает своему сыну посетить меня. Мне оставалось поэтому предположить лишь одно, что Бюлов делает все это в угоду своей разведенной жене, не желая после всех столкновений, вызвавших их разрыв, дать ей новый повод к конфликту, несмотря на то что в данном случае решалась судьба их сына. Такое предположение настраивало меня в высшей степени враждебно по отношению к Эдуарду фон Бюлову. Быть может, я и ошибался, но тон письма Ганса, в котором он жаловался на то, что жестокая необходимость заставляет его выбрать карьеру, совершенно не соответствующую его склонностям, и обречь себя, таким образом, на вечную борьбу с самим собой, сразу внушил мне решимость помочь моему другу и сделать для него все, что я считал в данном случае необходимым.
При крайней экспансивности, какой я отличался в те годы, и ненависти ко всякой духовной тирании я принял такое решение, не колеблясь ни минуты. Я ответил Гансу подробным письмом, в котором указывал на то, какой серьезный шаг он собирается сделать. Что дело шло не только о выборе карьеры, но о решительном перевороте во всей его внутренней жизни, было ясно из полного отчаяния, растерянного тона его письма. Протягивая ему руку помощи, я написал, что на его месте никогда бы не отказался от дружеской поддержки, если бы почувствовал стихийное, непреодолимое желание избрать карьеру артиста, что я предпочел бы самые тяжелые лишения, лишь бы не идти путем, который не отвечает моим склонностям. Поэтому я советую ему принять окончательное решение. Если, вопреки запрещению отца, он хочет приехать ко мне, то пусть по получении настоящего письма исполнит свое намерение, не считаясь ни с чем.
Карл Риттер был прямо счастлив, когда я передал ему письмо с поручением отвезти его в усадьбу Бюловов, где жил Ганс. Прибыв туда, он вызвал своего друга и, отправившись с ним на прогулку, передал ему письмо. Прочтя его, Ганс с места в карьер, в отвратительную, суровую, холодную погоду, решил пешком отправиться в Цюрих, так как ни у него, ни у его друга не было совершенно денег. И вот в один прекрасный день, промокшие и забрызганные грязью, они явились ко мне, совершив путешествие, полное разных приключений. Риттер сиял радостью по поводу удавшегося побега Ганса из дома отца, а молодой Бюлов казался потрясенным до глубины души. Я понял, что на мне лежит глубокая и серьезная ответственность. Болезненная возбужденность Ганса вызвала во мне искреннее сочувствие, и отныне наша дружба была скреплена на долгие годы.
255
Прежде всего я постарался вселить в Бюлова бодрость и светлые надежды на будущее. Материальные затруднения были скоро устранены. На тех же условиях, как и Карл, Ганс заключил контракт с дирекцией театра. Оба получали отныне небольшое жалованье, мое же поручительство за молодых музыкантов оставалось в прежней силе. Бюлову сразу пришлось взяться за дирижирование каким-то фарсом с музыкой. Не просмотрев ни разу нот, он с таким одушевлением и уверенностью повел за собой оркестр, что, к великому своему удовольствию, я сразу убедился в несомненной талантливости нашего новоиспеченного дирижера. Зато мне было очень трудно рассеять угнетенное состояние духа Карла, вызванное сознанием своей полной непригодности к практической музыкальной деятельности, на которую, по-видимому, он возлагал большие надежды. С тех пор я стал замечать какую-то робкую сдержанность и скрытую антипатию по отношению ко мне у этого юноши, замечательно одаренного во всем, что не касалось музыки. Но было совершенно невозможно сохранить за Карлом его пост капельмейстера и поручить ему дирижировать каким-либо спектаклем.