Всю дорогу Личинка рассказывала мне, как в юности она не поддавалась на происки империализма. И в ГДР, и в Польше, и в Болгарии. Она поучала меня долго, больно тыча в мое плечо твердым профсоюзным пальцем и подозревая меня во всех грядущих грехах. Она воспитывала меня, бесцеремонно называя на «ты», пока в соседнее купе не вошли офицеры. Глаз Личинки заблестел, она завершила воспитательный час, поправила перед зеркалом прическу, вышла из купе и мечтательно уставилась на проплывающие за окном пейзажи. Офицеры зазвенели бутылками и возбужденно загалдели, приглашая меня и Личинку принять участие в военных увеселительных мероприятиях. Я отказалась резко и сразу. Личинка поломалась и согласилась. Еще через час Личинка сняла пиджак. И всякую ответственность. Она пела песни своей юности и хохотала. Офицеры поскидывали обувь, бегали к проводнику за стаканами и штопором. И босиком, в форменных брюках и распахнутых кителях, были похожи на пленных немцев. Гусарская попойка длилась до Ленинграда. Гусары перешли с Личинкой на «ты» и хором пели песню: «Хорошо в степи скакать, свежим воздухом дышать». Личинка разгулялась, но с заветной сумкой при этом не расставалась. Молодец!
* * *
Британцы из Манчестера благополучно прилетели и ринулись на Ленинград без объявления войны.
– Скажи им, что я от профсоюза, – требовала Личинка.
– Личинка – от профсоюза! – констатировала я британцам.
– Хорошо, – безразлично кивали британцы.
– Ты сказала? Ты сказала им, что я – профсоюз? – настаивала Личинка.
– Да.
– Ну и что они ответили?
– Они ответили, что хорошо, что вы от профсоюза.
– И все?! – недоумевала Личинка. – Может, у них есть ко мне какие-нибудь провокационные вопросы?
– У вас есть вопросы к мисс Личинка? – поинтересовалась я.
– Есть! – вдруг активизировался старший группы Дэвид, как оказалось – опытный путешественник, побывавший в СССР несколько раз. – Можно не идти к «Авроре», в музей революции и в музей Ленина?
– Можно?.. – спросила я Личинку.
Личинка подняла глаза к небу, посчитала сэкономленные на политической пассивности англичан средства, выданные ей наличностью, и, сказав, что это крайне подозрительно, разрешила.
* * *
В магазине «Сувениры» на Невском я купила огромный отбойный молоток для своего папы. Это был такой сувенир – шариковая ручка в виде почти метрового отбойного молотка. Папа будет смеяться – решила я и купила это уродище. Личинка прикупила себе бюстик Есенина и осуждающе шипела, что я веду себя крайне подозрительно. Британцы по моему примеру купили отбойные молотки и себе. А потом еще веревочные авоськи и меховые шапки-ушанки. Отбойный молоток был громоздкий, хоть и пластмассовый, и не влезал в сумку. Я полдня таскала его на плече. С ним же поволоклась в Кировский театр на «Гаянэ». Уставшие британцы плелись за мной со своими отбойными молотками и в меховых ушанках, похожие на махновцев-стахановцев, только вышедших из забоя.
– Крайне, крайне подозрительно! – осуждающе кивала головой Личинка и делала вид, что она не с нами.
Пока мы пытались сдать в гардероб авоськи и шапки (молотки у нас не взяли), Личинка пропала. Мы нашли ее отбивающейся сумкой от какого-то «не нашего» империалиста, который, приняв ее за театральную служащую в ее форменном костюме джерси, на разных языках спрашивал, как ему пройти к своему месту. Придя на помощь Личинке, я объяснила империалисту по-английски, куда ему следует пройти и где сесть.
– Скажи ему, что я из профсоюза! – Личинка возмущенно, по-куриному отряхивалась.
– Она из профсоюза, – послушно отрекомендовала я Личинку.
– А! О!..
Империалист бросился целовать Личинке руки. Она от возмущения замахнулась на него сумкой. Империалист, прижимая руки к сердцу и без конца кланяясь, убыл в указанном ему направлении.
В антракте он появился в нашей ложе, снова кланяясь и извиняясь, и церемонно преподнес мне красиво запакованную коробочку со словами: «Сувени-и-ир! Португа-а-алия!» Личинка цапнула коробочку и, ловко вытащив из-под кресел папин отбойный молоток, протянула его португальцу со словами: «Сувени-и-ир! СССР!» А мне зашептала:
– Та-а-ак! Вот мы и влипли! Это же приспешник Салазара! Фашист!
– Но в Португалии уже давно нет фашизма! – возмутилась я.
– Может, и нет, но это не дает тебе права общаться с салазаровским наймитом!
Я горько вздохнула. Наймит был интеллигентен, хорош собой, и во лбу у него явно было несколько качественных высших образований. С изяществом юного князя он поволок отбойный молоток к себе в ложу, послав на прощание такой отчаянный взгляд, что у меня перехватило дыхание.
* * *
В следующий раз приспешник Салазара выскочил на нас в Эрмитаже. Радостно и удивленно, с сияющими глазами он подпрыгивал и ликовал за спинами моих британцев, размахивая ярким платком, пока я старательно переводила англичанам сведения об экспонатах рыцарского зала. Португалец и сам выглядел бы как рыцарь при дворе короля Артура, если надеть на него доспехи, дать в руки щит и меч Эскалибур. Хотелось называть его «милорд» – он похож был на принца, не осознающего своего высокого положения. Принца по крови, по духу и по воспитанию.
– Та-а-ак... – заподозревала Личинка. – Крайне подозрительно... Ты ему сообщила, что мы собираемся в Эрмитаж?
– Не-ет...
Я сама была удивлена. И обрадована. Империалист наконец назвал свое имя – Ацдрубаль. Его звали Байо Пинто Ацдрубаль. Это было не имя. Песня. Поэма. Через несколько часов шатания по Эрмитажу мы с британцами собрались идти отдыхать в отель. Ацдрубаль увязался за нами. По дороге он пел. Изображал тореро. Танцевал. И без конца целовал мне руки. Британцы хохотали. Личинка шипела, негодовала и велела ни в коем случае не говорить португальцу, что на следующий день у нас запланирован цирк. Я не сказала. Промолчала. У гостиницы под бдительным профсоюзным оком мы с португальцем снова расстались, теперь уже навсегда. Не приходится говорить, что он уносил в своей тонкой и сильной руке мое сердце...
* * *
...В цирке шапито, куда мы приехали с англичанами, на арену вышел верблюд. Заносчивый и облезлый, он вышел явно в дурном настроении, всем своим видом демонстрируя презрение к зрителям. Плохо ему было, этому верблюду. То ли несварение, то ли полнолуние, то ли вообще – а ну ее, эту жизнь. И я его очень хорошо понимала. Верблюд надменно оглядел публику, выбрал Личинку, оценил ее костюм джерси и плюнул. Верблюжий плевок пеной расположился вокруг Личинкиной шеи и улегся липким боа у нее на плечах. Личинке стало плохо. Она повалилась ко мне на руки, не выпуская сумку с деньгами из цепких пальцев.
– Врача! Врача! – закричали вокруг.
На крик прибежал врач... Им оказался потомок лузитан и Генриха Мореплавателя Байо Пинто Ацдрубаль, принц и воин, отважный рыцарь короля и хранитель ордена Справедливости, Правды и Красоты. И, откачивая мою Личинку, он зашептал:
– Это судьба... – он зашептал. – Судьба! Третий раз! Третий раз мы встретились в этом большом чужом городе! В чужом холодном городе на воде! Это судьба...
* * *
Поезд стучал на стыках. Тускло горела лампочка в купе. Личинка вскочила и суетливо завозилась, проверяя сумку.
– Я все напишу в отчете! – пообещала она, оплеванная, но бдительная. – Я все напишу, когда мы приедем домой, – пообещала самая серьезная женщина нашего города.
* * *
И она написала. Что переводчица, молодая и легкомысленная, которую так неосмотрительно послали встречать важную для города группу, вела себя крайне подозрительно. Подробности занимали три листа.
А я довезла своих британцев в Вижницу и сдала на руки Асланяну и Розенбергу, свободным и помирившимся. В первый же день они потащили британцев смотреть, где заканчиваются рельсы.
Мне же осталось только распустить волосы и пешком отправиться в горы, искать в лесу старую ворожку, пить горькое отворотное зелье. Горькое отворотное зелье – от любви.
Как же я люблю зеленый цвет! Зеленый цвет, говорил конюх принца Чарльза, – любимый цвет Бога. И правильно говорил этот конюх. Иначе почему самое прекрасное на свете, самое значительное или просто милое и симпатичное Бог выкрасил оттенками зеленого – деревья, травы, мой любимый берет, попугайчиков, крыжовник... – не надо мне подсказывать – доллары здесь ни при чем! – изумруды, зеленку, медный купорос, глаза моего кота Мотека, «Тархун», разрешающий движение кружок светофора, арбуз, лягушек...
А вот, кстати. Знаете что? Мало мы все-таки беседуем о лягушках, друзья...
Даня, мой сын, очень много интересного рассказывал о лягушках. У него когда-то была парочка воспитанниц: жабы Глаша и Экселенц. Никак сначала мы не могли понять, кто из них мальчик, а кто девочка. Данька решил, кто первый икру метнет, того и назначим девочкой. Но потом он и так разобрался, без икры. Потому что у Глаши было трогательное приветливое девичье личико, а у Экселенца – надменное верблюжье. Даня их выпустил в болотце, в их природную среду, потому что началась весна, икра мечется в воду, а у Даньки не было опыта разведения жаб, и он боялся, как бы головастики не погибли. Даня вообще гармонию природы кожей ощущает. Жена его Ирочка рассказывала, что на пляже Даню можно глазами найти в стайке детей на мелководье по торчащей пятой точке в ярко-зеленых (зеленых!) купальных трусах. Он вылавливает мальков, рассматривает подробно и выпускает обратно в море. А наиболее привлекательными ракушками щедро одаривает детвору, разделяющую его досуг. Он из тех, кто, как говорят, и мухи не обидит. Увидит, кто на муху охотится, и просит, не убивай ее, а если тебе невмоготу, обидь ее словом. И выпусти в окно. И никогда не делит он животных на теплых пушистых и на холодных скользких. Этому он и меня научил, мой Даня. А особое уважение и жалость он воспитал во мне к лягушкам. Потому что мало того, что они не очень привлекательны с виду – кто знает, какое сердце прячется под их пупырчатой кожицей, – но их еще режут в мединститутах, на них ставят опыты в различных академиях, и это еще не все. Их едят!!! Какой ужас. Как трагичен их жабий удел!
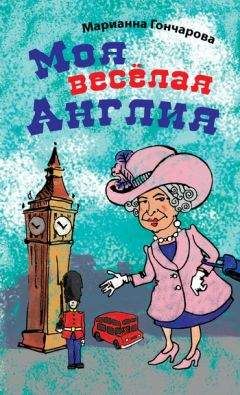



![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)
