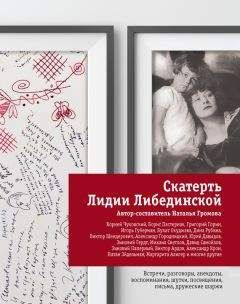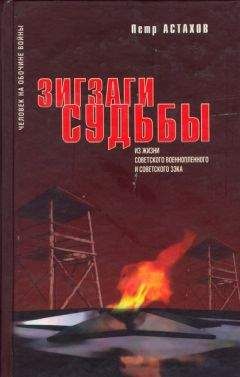Каторга и ссылка в рассказах и письмах
В Сибирь Рассказывает Тата Либединская
Как сейчас помню то жуткое утро 14 августа 1979 года. Всю ночь мы с Лолой и Ниночкой обсуждали, говорить ли маме, что Игоря посадили [52]! Тогда, оглушенные этой новостью, мы понимали, как изменит всю нашу жизнь это событие. Особенно было жаль маму — жаль, что она по нашей вине лишится привычного образа жизни, выступлений и поездок по стране и за границу! Времена стояли на дворе такие, что опасения наши были вполне реальны. Посовещавшись, мы решили, что я должна поехать в город и рассказать о случившемся маме. Как всегда, в расписании электричек был огромный перерыв. Я пошла голосовать, остановился сын писателя Авдеенко, я его помнила по Коктебелю, не уверена, что и он меня, но был очень приветлив. А я сидела и с ужасом думала: знал бы этот благополучный писательский сын, кого он везет! Он высадил меня у Никитских ворот, и я на автобусе добралась до Лаврушинского переулка. Совершенно не помню, что и как я говорила маме, помню только, что уже спустя час я сидела перед маминым другом детства, сыном давнего бабушкиного поклонника Вадимом Аркадьевичем Пертциком.
Тата Либединская-Губерман. Израиль, 1989
Вадим Аркадьевич Пертцик — потомственный юрист. Его отец Аркадий Григорьевич последние годы работал зам. начальника юридического отдела в каком-то союзном министерстве. С бабушкой Татьяной Владимировной они дружили еще со времен жизни на Кавказе, в молодости он ухаживал за бабушкой, да и потом оставался ее поклонником, что иногда было предметом домашних шуток. Дома у нас он бывал часто, вел все наши семейные официальные дела до самой своей смерти.
Его сын Вадим Аркадьевич родился в 1923 году и с тех самых пор дружил с нашей мамой. Окончив школу, он в 1941 году добровольно ушел на фронт, был ранен, потом снова вернулся на войну, участвовал в освобождении Киева. После войны поступил на юридический факультет Московского университета, который закончил с красным дипломом и поступил в аспирантуру. Дома бытовала такая история: получив кандидатскую степень, он устроил столь бурную вечеринку, что ему пришлось искать работу на периферии. Он выиграл конкурс на должность профессора во вновь создаваемом Иркутском университете, потом стал деканом юридического факультета. Часто приезжал в Москву с лекциями, а с начала семидесятых жил в Москве постоянно. Участвовал в создании и Брежневской, и следующей конституции. Познакомил маму с Анатолем Лукьяновым, чтобы он оказал помощь в отстаивании дач Чуковского и Пастернака в Переделкине.
Проводы семьи Губерманов в Израиль. Слева направо: Эмиль Губерман, Лола Либединская, Тата и Игорь Губерманы, Л.Б., Шура Говоров, Варвара Виноградова, Таня Губерман, Георгий Лескисс. Шереметьево, март 1988
«Ну что, доездилась, путешественница?» — грозно спросил меня Вадим Аркадьевич, имея, очевидно, в виду, что мы к тому времени подали заявление об отъезде в Израиль. И надо сказать, что этот большой, толстый и почти родной человек подействовал на меня, как то горькое лекарство в детстве. Я вдруг ясно поняла, что люди, даже самые близкие, но принадлежащие к этой жуткой системе, мне теперь уже ничем помочь не могут. Надо было брать себя в руки и начинать действовать самой, чтобы вытащить Игоря из того позора, в который хотели его ввергнуть гэбэшники! Впрочем, подробности я узнала позже; пока было лишь ощущение разверзшейся пропасти. А мама, сама того не подозревая, взяла на себя роль своей мамы, нашей бабушки, помогая мне и моим детям вылезти из этой пропасти, в которую загнала нас та жуткая власть. Мы с детьми переехали жить в Лаврушинский. В нашу квартиру на Речном вокзале я заезжала только для того, чтобы взять почту. От соседей я узнала, что следователи по делу Игоря разыскивали не только меня, но и нашу тринадцатилетнюю дочку. Не знаю, смогла бы я вынести все это, оставшись в нашей квартире на окраине Москвы. Очень хорошо помню одно утро, уже в Лаврушке: звонит следователь и медовым голосом просит меня приехать в Дмитров, там в КПЗ сейчас находится Игорь, и я могу передать ему продукты, но сначала он должен побеседовать со мной. Нет-нет, это не будет допрос, просто беседа. Я прекрасно понимаю, что это будет за беседа, но соглашаюсь — не могла же я Игоря лишить внеочередной передачи. За завтраком я осторожно говорю маме, что так-то и так-то, что друзья с машинами все на работе, поеду я электричкой. Уже через час был вызван с работы наш брат Саша, а Лола с Машей принесли все необходимое для передачи. Мы с Сашкой долго уговаривали маму не ехать, но она наотрез отказалась остаться дома. Очень хорошо помню этот морозный солнечный день. Я прекрасно понимаю, что Игоря не увижу, но близость любимых и любящих людей придавала мне сил и оптимизма! Сашку — как советского служащего — мы внутрь не взяли, мама сказала: «Жди здесь, а то тебя выгонят с работы». Мама пошла со мной в кабинет следователя, она ничего не говорила, но ее молчаливая поддержка придавала мне силы и уверенности: я наотрез отказалась вступать с ним в беседу, пока Игорю не отнесут передачу и я получу от него подтверждение, только после этого я согласилась ответить на провокационные вопросы. Мама мне потом сказала: «Я на тебя смотрела, когда ты с ним базарила, и поняла, что в тот момент в тебе проснулась дочь комиссара!» Спасибо маме, ведь без нее они не стали бы со мной церемониться! В их подлом деле свидетели были не нужны, да еще такие, как мама! Вообще, я думаю, что, когда гэбэшники разрабатывали дело Игоря, стукачи, которые для них составляли «психологические портреты», неправильно оценили не только личность Игоря, но и все наше окружение. В частности, личность мамы! Ведь не случайно именно к ней первой обратился некий представитель этой жуткой конторы: он поливал Игоря грязью, обзывал его чуть ли не вором и жестко предупредил ее, чтоб мы не вздумали поднимать шум на Западе! «Смотрите — вот Щаранский, какой шум подняли, а разве ему это помогло?» Мама мне все подробно рассказала, я спросила, что она ему ответила. «Я ему сказала, что здесь какая-то ошибка, что моя дочь не могла выйти замуж за такого негодяя!» Конечно, они делали ставку на маму: советская писательница, всюду на виду, конечно, по их жалкой психологии, должна была уж если не сдать меня со всеми потрохами, то наверняка помочь им в их черном деле. Не на ту напали.
Марина Бергельсон и Тата Либединская. 1955
Здесь будет уместно вспомнить про мою школьную подругу Марину Бергельсон. Мы с ней поступили в школу в 1950 году. Мама мне рассказала, что они вместе с Маришкиной мамой были в Коктебеле, когда им было по шестнадцать лет. Маришка была очень мечтательная и милая девочка. Мы с ней быстро подружились. Сближал нас и страх перед нашей первой учительницей. Как-то Мариша позвала меня к себе в гости, и первое, что бросилось в глаза, — это дверь, на которой красовалась большая печать. «Это кабинет моего деда». Она так и сказала — деда. Я знала, что у нее был дедушка, папа ее мамы. Маришка очень любила родителей мамы, но про дедушку, отца папы, я никогда не слышала. О нем я узнала от нашей общей подруги, она мне шепотом сказала: «А ты знаешь, Маришкин дед — враг народа!» Трудно мне сейчас вспомнить, как все это было, но что ничего плохого по отношению к Маришке я не испытала, это я помню точно. Думаю, что я вообще ничего не поняла. Мы продолжали дружить с Мариной. Но однажды вдруг вся семья Бергельсонов исчезла. Из их квартиры была сделана коммуналка. Я даже помню белобрысого мальчишку, который поселился в квартире Бергельсонов! Позже я узнала, что всю семью выслали в Казахстан, а Маришку удалось отстоять, ее сняли прямо с этапа. Старики Островеры, родители ее матери, достали убедительную медицинскую справку, что Маришка является бациллоносителем дифтерита, и таким образом получили свою обожаемую внучку. Дедушка Островер был, кстати, тоже писатель, но свои исторические романы он писал на русском языке. Помню их просторные комнаты где-то на Петровке. Мы обе были рады этой встрече, и я часто стала бывать у Маришки. Мама редко интересовалась нашими подругами, но Мариша была явным исключением: мама постоянно спрашивала, давно ли я звонила ей, и не пора ли мне ее навестить. Я любила туда ездить, мы много гуляли и разговаривали. Это был 1953 год, нам было по десять лет, а она мне рассказывала, как по дороге в Казахстан папа на ночлеге клал ее себе на грудь, чтобы ее не загрызли крысы, а на полу хлюпала вода.