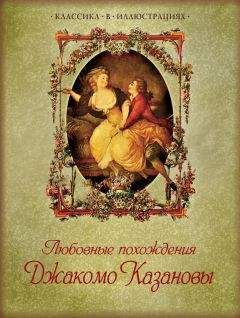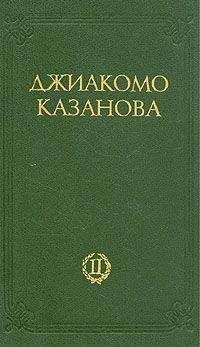– Я прибыл из Роша. Я был бы весьма огорчен, если б покинул Швейцарию, не повидав славного Галлера[111]. Я почитаю долгом своим засвидетельствовать уважение ученым, моим современникам, вы остались на сладкое.
– Г-н Галлер должен был вам понравиться.
– Я провел у него три чудесных дня.
– Поздравляю. Этот великий муж достоин преклонения.
– И я так думаю; вы относитесь к нему по справедливости, а мне его жаль, ибо он к вам не столь беспристрастен.
– Ах, ах! Очень возможно, что оба мы ошибаемся.
При сем ответе, удачном лишь быстротой своей, все кругом зааплодировали.
О литературе более не говорили, и я в дальнейшей беседе не участвовал, а когда г-н де Вольтер удалился, я подошел к Дени и спросил, не будет ли у нее каких поручений в Рим.
Казанова и Вольтер остались недовольными друг другом. Оба претендовали на универсальную компетенцию, играли специалистов в каждой области, имели исключительно строгий литературный вкус, выносили абсолютные приговоры в истории и политике, в дискуссии оба быстро достигали высоких градусов, и оба были весьма упрямы. Упрямые в критике и быстрые в репликах, в жажде блистать, ревнивые ко всеобщему вниманию и стремящиеся сорвать аплодисменты, они были менее склонны к соглашениям и даже были готовы к извержениям гнева и к ожесточенному молчанию вместо признания самого малого и мимолетного поражения. В беседах наедине оба были мягче и дружественней. Оглядка на публику ухудшала поведение обоих.
Герман Кестен. «Казанова»
Я уехал, вполне довольный тем, что в последний день сумел урезонить такого гиганта. Но у меня осталось к нему неприязненное чувство, которое десять лет кряду понуждало критиковать все, что доводилось читать старого и нового, вышедшего и выходящего из-под пера великого сего человека. Ныне я в том раскаиваюсь, хотя, перечитывая все, что я написал против него, нахожу критику свою небезосновательной. Лучше было бы молчать, уважить его и презреть собственные суждения. Если сказать по правде, если бы не насмешки его, задевшие меня в третий день, я почитал бы его воистину великим. Одна эта мысль должна была принудить меня к молчанию, но человек во гневе всегда почитает себя правым. Потомки, читая, причислят меня к сонму зоилов[112] и, верно, не прочтут моих нынешних покорнейших извинений.
Часть ночи и следующего дня я провел, записывая три свои беседы с ним, каковые сейчас изложил вкратце. Вечером синдик зашел за мною, и мы отправились ужинать к его девицам.
Пять часов, проведенных совместно, предавались мы всем безумствам, какие только могли прийти мне на ум. Я обещал, расставаясь, навестить их на обратном пути из Рима и сдержал слово. Я уехал из Женевы на другой день, отобедав с любезным моим синдиком; он проводил меня до Аннеси, где я провел ночь. Назавтра пообедал я в Экс-ле-Бене, намереваясь заночевать в Шамбери. <…>
Дальнейшие похождения Казановы
Затем Казанова побывал в Марселе, Генуе, Флоренции, Риме, Неаполе, Модене и Турине.
В 1760 году Казанова начинает называть себя «шевалье де Сенгальт», коим именем будет все чаще пользоваться до конца жизни. Иногда он представлялся графом де Фарусси (по девичьей фамилии матери). В 1762 году, вернувшись в Париж, он продолжает свою самую удивительную аферу: намеревается при помощи оккультных сил дать бессмертие маркизе д’Юрфе.
<…> Я поднимаюсь к маркизе, объявляю, что кушать подано, но обедать мы будем вдвоем, ибо важные причины принудили меня отослать аббата[113]– Бог с ним, он не умен. А Кверилинт?
– После обеда спросим совета у Паралиса. У меня возникли подозрения на него.
– У меня тоже. Мне кажется, он переменился. Где он?
– Лежит в постели с мерзкой болезнью, кою я не смею вам назвать.
– Уму непостижимо. Это деяние черных сил, но такого, сколько я знаю, никогда еще не случалось.
– Никогда, но сперва поедим. У нас сегодня будет много дел после освящения олова.
– Тем лучше. Придется совершить Оромазисов очистительный обряд, ужас-то ведь какой! Он должен был перевоплотить меня через четыре дня, а сам в таком ужасном состоянии?
– Давайте обедать, прошу вас.
– Я боюсь, что наступит час Юпитера.
– Ни о чем не беспокойтесь.
После отправления обряда Юпитера я перенес обряд Оромазиса на другой день и занялся каббалой, а маркиза переводила цифры в буквы. Оракул поведал, что семь Саламандр отнесли истинного Кверилинта на Млечный Путь, а в постели в комнате на первом этаже лежит коварный Сен-Жермен, которому некая гномида[114] сообщила ужасную болезнь, дабы стал он палачом Серамиды и та скончалась бы от того же недуга прежде назначенного срока. Оракул гласил, что Серамида должна предоставить Парализу Галтинарду (то бишь мне) отделаться от Сен-Жермена и не сомневаться в счастливом исходе перерождения, ибо сам Кверилинт ниспошлет мне Слово с Млечного Пути на седьмой день совершаемого мною обряда Луны. Последние слова оракула были: я должен оплодотворить Серамиду спустя два дня по завершении обрядов, когда прелестная Ундина омоет нас в ванной в той самой комнате, где мы сейчас находимся.
Обязавшись переродить милую мою Серамиду, я подумал: негоже будет мне оказаться не на высоте. Маркиза была красива, но стара. Могла у меня случиться оплошка. В тридцать восемь лет роковое это несчастье стало частенько меня одолевать. Прекрасной Ундиной, будто ниспосланной мне Луною, была Марколина[115], которая, обратившись купальщицей, должна была помочь мне обрести мужскую силу, в коей я столь нуждался. Тут сомневаться не приходилось. Читатель увидит, как я пособил ей спуститься с небес. <…>
Послезавтра, как сели мы обедать, маркиза, улыбаясь, протянула мне длинное письмо, которое этот подлец Пассано написал ей на прескверном французском – но что-то разобрать было можно[116]. Он извел восемь страниц, дабы убедить ее, что я обманываю ее, и в доказательство сей непреложной истины пересказал все как есть, не упуская ни малейших обстоятельств, кои могли бы мне повредить. Еще он писал, что я приехал в Марсель с двумя девицами, он не знал, где я держу их, но уж, конечно, я отправляюсь с ними спать каждую ночь.
Я спросил у маркизы, возвращая письмо, достало ли у нее терпения дочесть до конца, а она отвечала, что ровно ничего не поняла, ибо пишет он на каком-то варварском наречии, да и не старалась она понять – ибо ничего там не может быть, кроме измышлений, призванных сбить ее с пути истинного в тот самый момент, когда ей никак нельзя от него отступать. Такая ее осмотрительность весьма пришлась мне по душе, ибо я не хотел, чтобы она заподозрила Ундину, одного взгляда на которую мне хватило бы, чтобы завести телесный свой механизм.