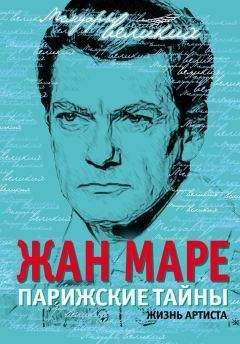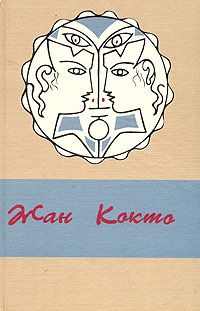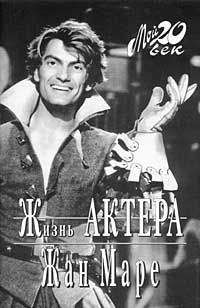Я вновь и вновь перечитываю твое доброе письмо. Как ты мог поверить в мое “равнодушие”? Я имел глупость играть роль, потому что мне хотелось освободить тебя и сделать счастливым. Но если мое счастье нужно для твоего, знай, что я каждую ночь плакал и страдал оттого, что не держу тебя в своих объятиях и что все мои шутки и смех были притворством. Я признаюсь тебе в этом в порыве радости, потому что чувствую, что удача возвращается в наш дом, и когда я поцеловал тебя сегодня вечером, я увидел, что ты был так же взволнован, как и я, и что мы портим чудо нашей жизни, не похожей на жизнь других. Мой прекрасный ангел, я хочу только твоего счастья, нашего счастья, и когда Ивонна де Бре сказала мне, что ты пишешь Д., я чуть не умер от признательности и нежности. С мужеством в тысячу раз большим я буду работать и бороться со злыми людьми, которые боятся тебя, как черт боится святой воды. Мой Жан, я обожаю тебя…
Р.S. Я очень сержусь на себя за то, что плохо объяснился».
Я любил тебя плохо, ленивой любовью —
Солнца луч, что сердца согревает подчас,
Я любил твою верность, и гордость, и юность,
И насмешку сияющих глаз.
Но решил я, что ты – сокровище мира,
Роль скупца я с тобою не вправе играть,
Что напрасно ты тратишь со мной свою силу,
Что тебя не смогу удержать.
Я ошибся, тебя обманув не желая,
На себя я терновый венец возложил.
Наша встреча – и драма моя, и поэма,
Но как мало я все же любил!
Отдаю тебе душу, и сердце, и остальное,
Снежных призраков сонм под крышей моей.
Направляй мою жизнь ты своею рукою —
Моя смерть во власти твоей.
Другое письмо:
«Жанно, ты скажешь, что у меня мания писать письма. Но как хорошо ночью писать тебе и видеть, как поток моей нежности струится под твою дверь.
Мой Жанно, ты вернул мне счастье. Ты никогда не узнаешь, что я выстрадал. И не думай, что я буду на тебя в обиде из-за твоих увлечений. Ты будешь рассказывать мне о них, и мы вновь обретем друг друга в любви, которая сильнее всего. Я обожаю тебя».
В другой раз я нашел под своей дверью следующее послание:
«Мой Жанно!
От всей души благодарю тебя за то, что ты меня спас. Я тонул, и ты бросился в воду без колебаний, не оглянувшись назад. Восхитительно то, что тебе это было нелегко, и что ты не сделал бы этого, если бы твой порыв не был искренним. Этим ты доказываешь свою силу, доказываешь то, что наша работа приносит плоды. В любви не может быть “козы” и “капусты” и не бывает маленькой любви. Любовь – это “Тристан и Изольда”. Тристан обманывает Изольду и умирает от этого. В одну минуту ты понял, что наше счастье нельзя поставить на одни весы с каким-то сожалением, безосновательной грустью. Я никогда не забуду этого. Напиши мне пару строк, твои письма – мои талисманы. Я обожаю тебя.
Жан».
Там было также стихотворение:
Любовь – нелегкая наука,
И я постиг ее с тобой.
Я слушаю молчанье друга,
Не понятое прежде мной.
Мой ангел, я любил так плохо!
Мой ангел нежный, ангел дикий…
Прозрачный, чистый, непорочный
И прочно, как кристалл, закрытый.
В кристалле этом созерцаю
Всю безысходность прошлых дней,
И в мыслях храм я воздвигаю
Античной статуе твоей.
В другое утро:
Читая гранки, вдруг я понял,
Что мной завершен «Потомак».
И вмиг легко мне стало так,
Словно исчез груз прошлых болей.
И понял я, что заслужил награду
Изменчивого солнца твоего
И что резные листья винограда
Скрывают плохо пол богов.
И ощутил себя я Принцем,
Но на колено Принц встает
Чтобы облаткой причаститься,
Той, за которой небо ждет.
Я понял, что мне щит с цветами
Твоими суждено носить,
Что лишь раскаянья слезами
Могу я глупость искупить.
Меня целуй же ты до боли,
Кольцо снимай и надевай
И изредка своею волей
В рыцарский орден посвящай.
Вскоре мы закончили играть «Трудных родителей». Он написал мне последнее стихотворение, все строки в нем были подчеркнуты.
Совершим путешествие свадебное
Настоящее! Месяц медовый
И все то, что не небо дарит нам,
Сбросим мы с себя, как оковы.
О мой ангел, тебя умоляю
(Ты ведь любишь мне счастье давать),
Окунемся на время в безумье,
Чтоб уж нечего было желать.
Пусть от счастья заходится сердце,
Позабыты мораль и закон,
Под глазами блаженных страдальцев
Бледно-синий цветет анемон.
Р.S. Если ты хочешь ответить мне прекрасным стихотворением, напиши “да” на листочке бумаги, оно займет место среди моих сокровищ».
Я написал «ДА».
Это стихотворение было не последним…
Не позволяй, любимый, лени сладкой,
Что может тело так легко объять,
Вдруг между нами проскользнуть украдкой
И нашу ласку задержать.
Наука ль счастье? – я не знаю,
Наверно, счастью можно научить,
Ведь кровью белой, что я истекаю,
Весь мир я мог бы воскресить.
Мы убежим из Парижа, из Парижа…
Мы уедем с тобою вместе
(Так прочли на ладони уста).
О! люби меня, и возвратится
Моя юность, надежда, мечта.
Не лишай же меня в отеле
Половины постели своей.
Де Грие спит сегодня с Тибержем —
Это даже еще милей.
Мы уехали в Сен-Тропе: это были мои самые прекрасные каникулы. Незадолго до этого Жан написал в Версале свою новую пьесу «Пишущая машинка». Я заезжал тогда за ним после театра. Обе роли, предназначенные для меня, приводили меня в трепет, тем более что Ивонна де Бре сказала, что для меня это «рискованная затея». Она попала в самую точку, потому что из-за этой пьесы я поколотил одного критика. Но не будем забегать вперед.
В фильме «Вечное возвращение»
К тому времени относится история с Клодом Мориаком. Уже в течение многих месяцев он регулярно наносил нам визиты на улицу Монпансье. Жан принимал его как сына. Клод Мориак собирался писать о нем книгу, но Жан вовсе не поэтому принимал его столь сердечно. Как всегда, он делал это с присущей ему доброжелательностью, желая помочь молодому начинающему писателю. Клод приходил почти ежедневно. Очевидно, не закончив свою работу, он продолжал собирать материал и в Версале[13].
Если я страдаю недостатком ума, то обладаю хорошо развитым инстинктом. К Клоду Мориаку я испытывал чувство недоверия, к которому должен был бы прислушаться. Но я мог ошибаться. Поэтому я ничего не говорил Жану, боясь причинить ему боль. Хотя, может быть, я избавил бы его от той, которую он испытал после выхода книги Клода Мориака. Он был шокирован до такой степени, что в течение нескольких дней болел, а потом многие месяцы грустил, как после потери сына.