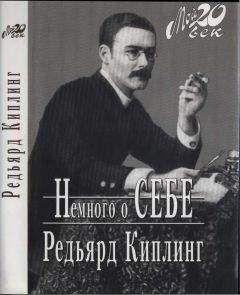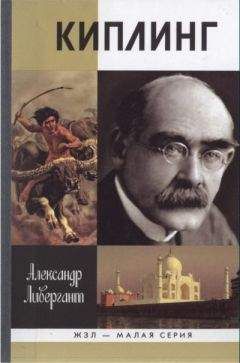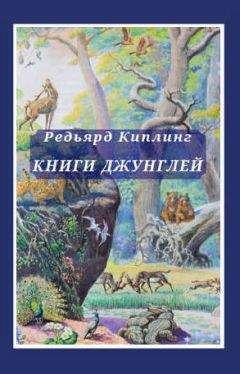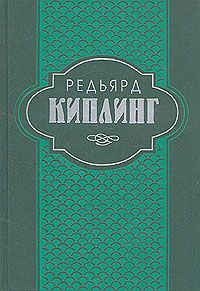Во время южноафриканской войны мое положение среди солдат неофициально было выше, чем у большинства генералов. Для того чтобы обеспечить войскам скромные удобства на фронте, требовались деньги, и с этой целью газета «Дейли Мейл»[197] поторопилась начать свою кампанию. Было решено, что я обращусь к людям с просьбой о пожертвованиях. Все остальное газета брала на себя. В моем стихотворении («Рассеянный нищий») были элементы прямого призыва, но, как мне было указано, недоставало «поэзии». Сэр Артур Салливан[198] положил его слова на музыку, более жалостливую, чем у шарманщиков. С результатом каждый мог делать все, что угодно, — декламировать, петь, перепечатывать и т. д., при условии, что все доходы будут положены на основной счет — в «Фонд рассеянного нищего» — где в конце концов собралось около четверти миллиона. Часть этих денег была потрачена на табак. В ту эпоху люди больше курили трубки, чем сигареты, и самой популярной маркой был плиточный — заодно и жевательный — «Подлинная любовь Хайнетга». На кейптаунском складе мне выдали под вексель столько табака, сколько я хотел взять с собой. Остальное явилось итогом. На всех переполненных складах потные сержанты инженерных войск отправляли мои телеграммы в первую очередь. Мое место в поезде охраняли для меня британские солдаты в рубашках с короткими рукавами. Мой небольшой багаж вырывали друг у друга и подобострастно несли колониальные полицейские, обычно отнюдь не кроткие, и я был persona gratissima* в одном из уайнбергских госпиталей, где медсестры нашли, что я гожусь для переноски пижам. Как-то раз я принес кипу пижам не той медсестре (меня сбили с толку красные шапочки) и, зная, что дело срочное, громко объявил: «Сестра, вот ваши пижамы». Ни благодарности, ни особой вежливости она не выказала.
Моя известность приводила ко множеству приятных, иногда огорчительных знакомств со всевозможными людьми, и лишь раз я нарвался на грубость. Я ехал в Блумфонтейн[199] сразу же после его захвата в вагоне, отбитом у буров, полы его были покрыты бараньими кишками и луком, а стены — карикатурами «Чемберлена» на виселице. Позади была открытая платформа с солдатами, ротный балагур развлекал их тем, что передразнивал офицеров, объяснял, как складывать подковы. Когда наступил вечер, он принес две сигнальные свечи с тремя фитилями, при их свете по крайней мере можно было есть. Я, естественно, захотел узнать, как он раздобыл их. Он ответил: «Слушай, начальник, я не спрашиваю, как ты раздобыл табак, который только что раздавал. Можешь, черт побери, оставить меня в покое?»
В этом призрачном поезде слуга одного офицера из Индии (мусульманин) был обеспокоен религиозной проблемой. «Будет ли эта говяжья тушенка, выданная правительством, дозволенной едой для правоверного?» Я ответил, что когда ислам воюет с гяурами, Коран дозволяет не соблюдать многие запреты. На рассвете, пока я еще лежал на полке, он принес мне англо-индийскую чашку чая. Горячей воды он, должно быть, тайком набрал на паровозе, потому что в окрестностях ее не было ни капли.) Когда я поинтересовался, откуда такое чудо, он улыбнулся, как мой Кадир Бухш, и ответил: «Миллар, сахиб», это означало, что он обнаружил (или «сотворил») его.
В Блумфонтейн я ехал по приказу лорда Робертса, мне было велено явиться и делать, что будет сказано. Задачу мне объяснили на станции двое незнакомцев, с которыми я подружился на всю жизнь, Х.Э.Гуинн, тогда ведущий корреспондент агентства Рейтер, и Перси-вал Лондон из «Таймс». «Вы должны помогать нам издавать газету для войск», — сказали они и привели меня в только что захваченную «редакцию», поскольку Блумфонтейн пал несколькими днями раньше.
Наборщики и сотрудники редакции были тоже захвачены нами и весьма недовольны этим — особенно жена бывшего редактора, острая на язык немка. Наборщику я сразу же велел набрать официальное воззвание лорда Робертса к понесшему сильные потери противнику. Имел удовольствие поднять с пола подробное описание того, как бригада гвардейцев Ее Величества была вынуждена вступить в бой огнем артиллерии, и фанки передовой статьи с грубыми ругательствами в мой адрес.
Во время того затишья шла бойкая торговля воззваниями — и маслом по полкроны за фунт. Мы, используя все старые стереотипы, рекламировали съестные припасы с давно истекшим сроком годности, уголь и бакалею (по-моему, в блумфонтейнских магазинах из всех товаров оставалась только пудра), а промежутки между рекламами заполняли своими статьями и писаниями запыленных людей, которые заглядывали к нам и предлагали замечательные рукописи — главным образом клеветнические.
Джулиан Ральф, лучший из американцев, был одним из соиздателей. Его взрослый сын слег с какой-то болезнью, тревожно напоминавшей брюшной тиф. Мы принялись искать хорошего врача и остановили немца, который — так велик был страх перед нашим оружием — после «пленения» надменно спросил: «А кто мне заплатит за труды, если я пойду туда?» Казалось, никто этого не знал, однако несколько человек объяснили, кто рассчитается с ним, если он будет попусту тратить время. Немец глянул на живот больного, радостно объявил: «Конечно, брюшной тиф». После этого возник вопрос, как отправить парня в больницу, переполненную тифозниками, так как буры перекрыли подачу воды. Первым делом требовалось сбить температуру с помощью растирания спиртом. Тут мы пришли в замешательство, и в конце концов некий гений — кажется, Лэндон — сказал: «Я видел в городе офицерскую жену, которая выпивает». По этому намеку один человек вышел на широкие, пыльные улицы и вскоре отыскал ее, в самом деле под хмельком. Бог весть как ей удалось заставить себя пойти на такую жертву, но она была глубоко порядочной женщиной. «Пойдемте ко мне, — сказала она и, отдавая драгоценную бутылку, лишь вздохнула. — Не тратьте все — если в том не будет необходимости». Мы сбили у парня температуру с 39,9° до приемлемых 37° и повезли его на ручной тележке в больницу, где выяснилось, что у него не брюшной тиф, а острый приступ местной лихорадки.
Думаю, в Блумфонтейне больше никогда не бывало одновременно восьми тысяч больных брюшным тифом. Насколько мне известно, нередко оба «ритуальных» флага Соединенного Королевства «находились в употреблении». Если мертвецов оказывалось больше, они ложились в могилу под солдатским одеялом.
В высоком уровне смертности были повинны наша полнейшая беззаботность, бюрократизм и невежество. Я видел, как батарея конной артиллерии, мертвецки пьяная, прибыла в полночь под проливным дождем, и какой-то болван, чтобы избавить себя от хлопот, разместил ее в здании эвакуированной тифозной больницы. В результате — тридцать заболеваний в течение месяца. Видел, как люди пили сырую воду из реки Моддер, в нескольких ярдах ниже по течению от места, где мочились мулы; а выбор мест для уборных и строительство их, судя во всему, считалось «занятием не для белого человека». Начальник медицинской службы в любом батальоне должен быть рыцарем уборных.