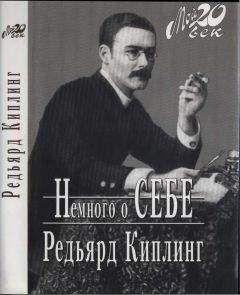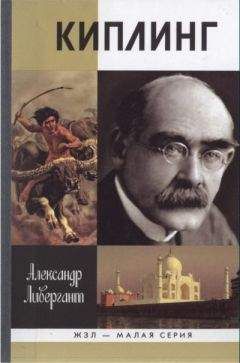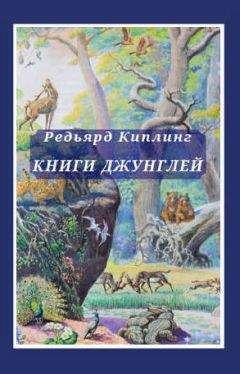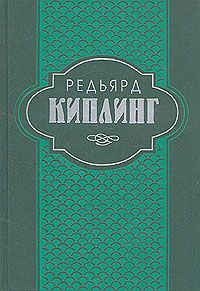Думаю, в Блумфонтейне больше никогда не бывало одновременно восьми тысяч больных брюшным тифом. Насколько мне известно, нередко оба «ритуальных» флага Соединенного Королевства «находились в употреблении». Если мертвецов оказывалось больше, они ложились в могилу под солдатским одеялом.
В высоком уровне смертности были повинны наша полнейшая беззаботность, бюрократизм и невежество. Я видел, как батарея конной артиллерии, мертвецки пьяная, прибыла в полночь под проливным дождем, и какой-то болван, чтобы избавить себя от хлопот, разместил ее в здании эвакуированной тифозной больницы. В результате — тридцать заболеваний в течение месяца. Видел, как люди пили сырую воду из реки Моддер, в нескольких ярдах ниже по течению от места, где мочились мулы; а выбор мест для уборных и строительство их, судя во всему, считалось «занятием не для белого человека». Начальник медицинской службы в любом батальоне должен быть рыцарем уборных.
К брюшному тифу прибавилась дизентерия, вонь от которой еще отвратительней, чем смрад мертвечины. Запах дизентерийных палаток можно почувствовать за милю. И учтите, что пока мы не принесли с собой эту болезнь, просторная, иссушенная солнцем земля была антисептической, стерилизованной — до такой степени, что чистая огнестрельная рана в живот влекла за собой не больше недели воздержания от плотной пищи. Я узнал это в санитарном поезде, где мне приходилось отговаривать гневных «животников» от обычного рациона. Мы тогда принимали раненых после небольшого сражения при Паардеберге, и списки их — около двух тысяч человек в действительности — старательно преуменьшались, чтобы уберечь английскую публику от «потрясения». Во время этой работы я однажды грохнулся в темноте, споткнувшись о человека возле поезда, и поранил ладони о гравий. Этот человек объяснил спокойным голосом, что у него «раздроблено бедро, сэр. Надеюсь, вы не ушиблись, сэр». Я так и не узнал фамилии этого безвестного Филипа Сидни[200]. Они были изумительны даже в смертный час — эти мужчины и парни — сторожа и бывшие дворецкие из запаса и необученные городские ребята лет двадцати.
Но вернемся в Блумфонтейн. В одном из промежутков между редакционными трудами я выехал за город и вскоре встретил «одинокого всадника», как бывает в романах. Это был сержант интендантской службы, он сообщил, что «цвет британской армии» угодил в засаду у местечка Саннас Пост, понес большие потери и последовал дальше, видимо, в беспорядке. Мне представилось, что цвет этой армии толпится у меня за спиной, читая нашу газету; но вскоре я повстречал офицера, прозванного еще в Индии Сардиной. Он был спокоен, но его мундир в нескольких местах был пробит пулями. Да, там, откуда он ехал, была заварушка, но его переполняло профессиональное восхищение.
— Как это было? Буры заманили нас в ущелье. Как в театре. «Партер налево, бельэтаж направо», представляете? Мы просто угодили в ловушку, а там пошло «Пехота сюда, пожалуйста. Пушки направо, будьте добры». Превосходная работа! Сколько погибло наших? Думаю, около тысячи двухсот, и захвачено четыре — может быть, шесть — орудий. Буры проделали это мастерски. Вот результат разрекламированных экспедиций.
И, продолжая нахваливать противника, тоже последовал дальше.
Когда я вернулся в Блумфонтейн, население было убеждено, что на город наступают восемьдесят тысяч буров, и цензор (лорд Стенли, ныне Дерби)[201] был осажден людьми, стремящимися отправить телеграмму в Кейптаун. Один неариец подал ему безобидную телеграмму: «Погода здесь переменная». Стенли, слегка обеспокоенный судьбой друзей в попавшей в засаду колонне, отчитал этого джентльмена.
Относительно «разрекламированных» экспедиций Сардина был прав. По всей стране бесцельно передвигались колонны, посланные, дабы показать, какими добрыми стараются быть британцы к введенным в заблуждение бурам. Но трансваальский бур, не будучи городским жителем, остался равнодушен к «падению» столицы свободного государства и подался в вельд с лошадью и винтовкой.
Готовилось сражение, которое впоследствии было названо «Битвой при Кари Сайдинге». Туда отправились все сотрудники газеты «Друг Блумфонтейна». Меня усадили в повозку с кучером-туземцем, где находилась большая часть спиртного, со мной поехал один хорошо известный военный корреспондент. Громадный светлый ландшафт бесследно поглотил семитысячное войско на фронте длиной в семь миль. По пути мы миновали ряд аккуратных, глубоких и пустых траншей, хорошо подкопанных для укрытия с той стороны, откуда велся обстрел шрапнелью. Молодой гвардейский офицер, недавно получивший звание бревет-майора[202] — и недовольный нашей газетой за то, что мы назвали его бранч-майором[203] — разглядывал их с любопытством. Это были первые, неясные линии укрытий, но и он, и мы не сводили с них глаз. Немцы спланировали их secundum artem[204], но буры предпочитали открытое пространство, где можно скакать на коне. Наконец мы подъехали к одиноко стоявшему фермерскому дому, украшенному как минимум пятью белыми флагами. За хребтом слышались частый треск ружейных выстрелов и время от времени буханье орудий. «Здесь, — сказал мой наставник и опекун, — мы слезем с повозки и пойдем пешком. Кучер будет ждать нас возле дома». Однако тот громко запротестовал. «Нет, сэр. Они стреляют. Они меня убьют». — «Но ведь дом весь в белых флагах», — сказали мы. «Да, сэр. Как раз из-за этого», — ответил он и предпочел отвести своих мулов в довольно отдаленное ущелье, где ждал нашего возвращения.
В фермерском доме (скоро вы поймете, для чего мне столько подробностей) находилось двое мужчин и, полагаю, две женщины, встретивших нас равнодушно. Мы отправились дальше в пустой мир широкого простора и солнечного света, где то и дело негромко пели одиночные пули. Больше всего мне не нравилось ощущение, что я нахожусь под прицельным огнем — что меня хотят убить. «Зачем они это делают?» — спросил я своего друга. «Потому что принимают нас за треклятых легких кавалеристов. Они, должно быть, прямо под этим склоном». Я взмолился Богу, чтобы эти треклятые легкие кавалеристы отправились куда-нибудь в другое место, вскоре именно так они и поступили, потому что прицельный огонь ослабел и с дальнего фланга появился с новостями соскучившийся до смерти солдат колониальных войск. «Нет; ничего не происходит; никого не видно». Затем снова треск выстрелов и осторожное продвижение к краю долины, где паслись овцы. Некоторые из них начали падать и дрыгать ногами. «Это обе стороны пристреливаются», — сказал мой спутник. «С какого расстояния?» — спросил я. «Не меньше восьмисот ярдов. По нынешним меркам это близкая дистанция. Ближе не подойти. Современные винтовки не дают такой возможности. Побудем здесь, пока где-нибудь чего-то не произойдет». Обе стороны устроили долгий перерыв на обед, нарушаемый время от времени треском выстрелов. Потом разорвался снаряд — с удивительно слабым звуком на таком просторе, однако взметнувший много земли. «Крупп! Четырех или шестифунтовый, с предельного расстояния! — сказал знаток. — Они все еще принимают нас за легких кавалеристов. Теперь начнут палить регулярно». И точно, примерно каждые двадцать минут на нашем склоне взрывался снаряд. Мы ждали, ничего не видя в пустоте и слыша только слабый шум, словно бы от ветра в газовых рожках, то и дело доносившийся с безмятежных холмов.