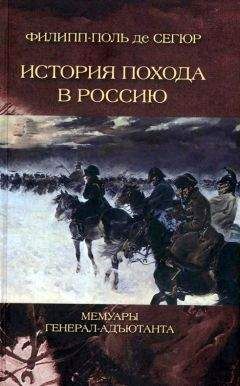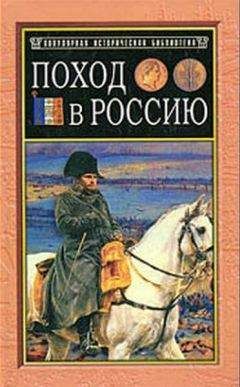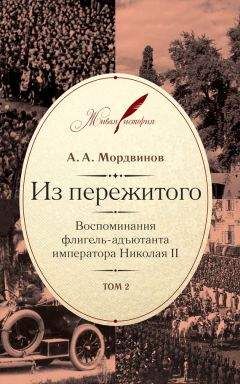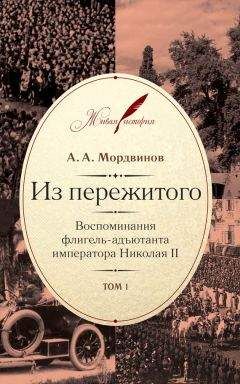Встречались и такие, которые предпочитали умереть сами, чтобы не впадать в крайности, среди них были совсем юные. Они приставляли дуло мушкета к своему лбу и стреляли. Многие просто загрубели и вымещали свое горе на других: находясь на громадном расстоянии от дома, они возомнили, что им всё позволено и их страдания дают им право причинять людям зло.
Вполне естественно, что в многочисленной армии, состоявшей из представителей многих наций, находилось больше нарушителей, чем в меньших по размеру армиях, и зло порождало новое зло. Армия, ослабленная голодом, должна была двигаться вперед форсированными маршами и настичь врага. Солдаты останавливались на ночлег и заполняли жилища; усталые, они зачастую валились на грязную солому. Наиболее выносливые из них находили силы для того, чтобы приготовить что-либо из муки, и разжигали печи, имевшиеся в каждом из этих деревянных домов; их столь же усталые офицеры давали приказы о соблюдении мер осторожности, но не проверяли, как эти приказы выполняются. Кусок горящего дерева из печи или искра бивуачного костра могли вызвать возгорание в доме, стать причиной пожара во всей деревне и смерти многих солдат. Впрочем, такие беспорядки в Литве случались очень редко.
Наполеон знал об этом, но зашел уже слишком далеко. Беспорядки происходили даже в Вильне. Мортье, в числе других, сообщил императору, что он видел от Немана до Вилии только разрушенные дома, брошенные повозки, перевозившие багаж и провиант; «они были разбросаны на больших дорогах и в полях, перевернуты, вскрыты, а их содержимое валялось повсюду и подвергалось грабежу, как если бы они были захвачены врагом: всё выглядело так, будто здесь прошла разбитая армия. Десять тысяч лошадей погибли в результате холодного ливня и бури, а также от поедания зеленых хлебов, их единственного корма. Их туши загромождают дорогу и распространяют зловонный запах, дышать в этом месте невозможно: это новая беда, которую некоторые сравнивают с голодом, но гораздо более ужасная; несколько солдат Молодой гвардии уже умерли от голода».
До этого момента Наполеон слушал спокойно, но здесь он грубо прервал говорившего и воскликнул: «Невозможно! Где же их двадцатидневная провизия? Солдаты, которыми хорошо командуют, никогда не умирают от голода».
Генерал, представивший этот рапорт, также присутствовал. Наполеон повернулся к нему и забросал вопросами; генерал, от слабости или неуверенности, ответил, что солдаты, о которых только что говорили, умерли не от голода, а от опьянения.
После этого император проникся уверенностью, что донесения преувеличивают солдатские беды. Он воскликнул: «Потерю некоторого числа лошадей можно пережить; то же самое можно сказать об экипажах и даже о селениях; это поток, который быстро несется; это худшее, что есть на войне; хорошее приходит на смену плохому, но нельзя обойтись без страданий; богатства и блага возместят потери, великий результат всё изменит; нам нужна единственная победа».
Мортье заметил, что победы можно достичь более методичным маршем, устраивая склады, но его не слушали. Те, кому этот маршал (который только что вернулся из Испании) пожаловался, ответили ему: «Да, Наполеон сердится, получив донесения о бедах, которые он считает непоправимыми, его политика диктует необходимость быстрой и решительной победы».
Они добавили, что они слишком ясно видят, что здоровье императора ухудшилось; и, будучи, тем не менее, вынужденным ставить себя в положение всё более и более критическое, он не сможет обозревать, не впадая в плохое настроение, трудности, через которые прошел и которые только нарастают; к этим трудностям он склонен относиться с презрением и преуменьшать их важность, чтобы сохранить энергию, необходимую для их преодоления. «Это и есть причина того, что, будучи взволнованным и утомленным новой и критической ситуацией, в которой он оказался по своей воле, и желая как можно скорее выбраться из нее, он продолжает идти вперед, чтобы как можно раньше положить этому конец!»
Наполеон был вынужден закрывать глаза на факты. Хорошо известно, что наибольшая часть его министров не были льстецами. Факты и люди достаточно ему говорили, но чему они могли его научить? О чем он не знал? Разве все его приготовления не были основаны на самом ясном предвидении? Что можно было ему сказать такого, чего он сам не говорил и не писал сотню раз? Как могло случиться, что после того, как он предвидел мельчайшие детали, подготовился ко всем неудобствам, обеспечил всё необходимое для медленной и методичной войны, он вдруг отказался от всех предосторожностей, всех приготовлений и позволил себе по привычке заспешить, думая лишь о коротких войнах, быстрой победе и скором мире?
Во время этих печальных событий министр русского императора Балашов появился на французских аванпостах с белым флагом. Он был принят, и армия, менее пылкая, чем вчера, с радостью предвкушала мир. Он привез следующее письмо Александра Наполеону: «Еще не поздно договориться; война, которую почва, климат и характер России делают бесконечной, началась; но примирение не является невозможным, и предложения, высказанные на одном берегу Немана, могут быть услышаны на другом». Балашов добавил, что его повелитель перед лицом Европы заявил, что он не агрессор; что его посол в Париже, затребовав свои паспорта, тем самым вовсе не считал, что нарушает мир; однако Франция вторглась в Россию без объявления войны. Балашов не представил новых предложений, устных либо письменных.
Выбор человека, приехавшего с флагом мира, примечателен: то был министр русской полиции; эта должность требует наблюдательности, и очевидно, что он должен был проявить названное качество, находясь среди нас. Переговоры требуют большой умеренности, невозможной при сложившихся обстоятельствах, поскольку ее приняли бы за слабость. Это соображение снижало наше доверие к личности парламентера.
Наполеон не испытывал колебаний. Он не остановился в Париже, как же он теперь может отступать в Вильну? Что подумает Европа? Какой результат может быть представлен французской и союзной армиям как оправдание столь многих трудов, больших маршей и расходов? Это значило бы признать себя побежденным. Кроме того, своими речами перед правителями с момента отъезда из Парижа и своими действиями он взял на себя определенные обязательства. Он начал разговор с Балашовым очень живо: «Что привело вас в Вильну? Чего хочет император России? Он думает сопротивляться? Что касается меня, то мой ум является моим советником, и именно отсюда всё вытекает. Но Александр — кто советует ему? У него только три генерала — Кутузов, которого он не любит, поскольку он русский, Беннигсен, уволенный шесть лет назад и впавший в маразм, и Барклай, который умеет маневрировать; он понимает войну, но этот генерал хорош только для отступления… Все вы думаете, что понимаете искусство войны, поскольку читали Жомини, но если эта книга может научить вас чему-нибудь, думаете ли вы, что я должен разрешить опубликовать ее?» В этом разговоре, русскую версию которого я здесь представляю, он добавил, что император Александр имеет друзей даже в императорской штаб-квартире. Затем, показывая на Коленкура, он сказал русскому министру: «Вот верный рыцарь вашего императора, он русский во французском лагере».